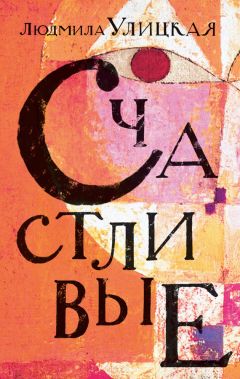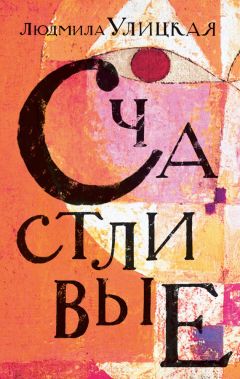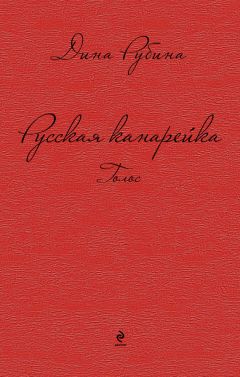Дина Рубина - Русская канарейка. Голос
– А почему здесь написано: «Молчание Голгофы»? – спросил он и осекся: конечно, молчание… У нее же все происходит – в молчании…
А ваша минувшая ночь, кретин ты этакий, – разве она не произошла в молчании, ваша единственная прекрасная ночь, – в упоительном, бесконечном и исчерпывающем молчании двух непрерывно беседующих тел…
Он опять вспомнил, что сейчас она исчезнет, растворится в толпе; сейчас ее выметет ветром из его жизни. И за мыслью немедленно последовал гулкий обвал где-то внутри – он называл это место «поддыхом». Нет, это черт знает что, подумал он в яростной досаде на себя самого – ты что, сдурел?
– А вот этот рассказ называется «Тишина восточного базара», – сказала она. – Могу только вообразить, какой там стоит гвалт – по плотности воздуха: он такой… густой, как студень; густой от запахов специй, мяса, рыбы, хлебов… людских выдохов и, конечно, голосов, криков, зазывов, стонов и проклятий. Там арабские торговцы чуть не силой в лавки затаскивают: «Наташа, Наташа!» – все русские женщины у них «наташи», даже если говоришь с ними по-английски. Как-то чуют. Они вообще ушлые.
Перед ним проплывали, мягко подталкиваемые ее рукой, цветные лоскуты снимков – так кошка или собака носом подталкивает своих детенышей.
Стена с рядом распятых арабских платьев, вышитых золотыми и разноцветными нитками – болбочущие цвета, перебивающие друг друга, как голоса кумушек. Белая чашечка с засохшей на дне кофейной гущей, забытая на каменном столбе: еле заметны буквы древней латыни, выбитые чьей-то рукой две тысячи лет назад: «Стоянка десятого римского легиона…»
Глаза старика-раввина: все лицо в тени, а глаза попали в резкую полосу света от полуприкрытых ставней – пронзительный, невыносимый взгляд, переживший воинов того самого десятого римского легиона.
А вот отдраенной медью горят тарелки на голубой стене: столовка грека Косты на одной из кривых и узких улочек Старого города. Затрапезное заведение, одно из многих, если б не экзотическое библейское блюдо, которое там подают: голубь, фаршированный рисом и кедровыми орешками… Едали, не раз едали у Косты его фаршированного голубя…
– Постой! – вдруг сказал Леон. – Верни предыдущую…
Снова на экран выплыл серебряный чан, доверху заполненный мелкозернистым, узловатым, колючим крошевом разномастных вещиц: янтарные, коралловые, бирюзовые, чернено-серебряные бусины, агатовые четки, кованые заколки, крошечные медные светильники, цепочки, кресты и подсвечники, и маленькие бронзовые ханукии. Под фотографией надпись, как он сам бы назвал: «Музей минувшего времени».
– Нет-нет, еще до этой… Там, где в разных руках – две одинаковые монеты.
– А-а! – протянула она одобрительно. – Это моя любимая. Если ты оценил, покажу в настоящем виде.
И вывела на экран тот же снимок, но в черно-белом варианте.
– Ты уже понял, что не каждая фотография имеет право стать черно-белой? – уточнила она. – Говорят: «Глаза не врут». На самом деле – врут отлично! О человеке врет все: одежда врет, прическа, даже лицо. Но руки – в последнюю очередь. И если на портрете «выключить» цвет, то с ним автоматически уходит все неважное, ненастоящее. И проявляется суть человека.
Леон молча рассматривал изображение на экране. В данную минуту ему было плевать, цветное оно или черно-белое. Ему вообще было не до художественных достоинств. Он знал эти руки: и левую, сильную, мужскую, рабочую, со вздувшимися венами, и вторую – детскую, беззащитную, навсегда оставшуюся в минувшем времени… В каждой лежало по совершенно одинаковой старинной серебряной монете.
– Знаешь, в чем соль этого фото? – спросила Айя и сразу же ответила: – В том, что это руки одного и того же человека.
– Да неужели… – пробормотал Леон, мгновенно покрывшись испариной: значит, не ошибся.
– Ну да! Постой, покажу исходник… Я ведь работала над снимком: отсекла ему руки. Вообще, это была впечатляющая встреча, знаешь… Ну где же эта чертова папка… А, вот!
Она щелкнула, погнала по экрану множество крошечных заплаток – как стаю пестрых рыбок в расщелине рифа. Чуть замедлила их бег, удовлетворенно произнесла:
– Вот она. Поймала…
Леон молча впился глазами в фотографию.
Конечно, она разительно отличалась от того окончательного «рассказа», который из пойманного мгновения уже перешел в область искусства. Но ценность этой фотографии была в другом: в дате. Снимок был сделан за день до убийства Адиля.
Живой, обходительный антиквар, взвешивая на ладонях, демонстрировал некоему импозантному господину (а тот заинтересованно слушал) две одинаковые серебряные монеты. Адиль любил этот фокус: вначале объяснить, как отличить фальшивую монету от подлинной, а после непременно уточнить, лукаво прищурив глаз, что в наше время фальшивая стоит дороже подлинной, будучи раритетом подделки двухтысячелетней давности.
Выразительную сценку портила, частично заслоняя, чья-то случайная смазанная фигура: крепкая спина в джинсовой рубашке, такой же крепкий затылок.
– Теперь понятно, – легко проговорил Леон, рассматривая знакомые витрины магазина, морщинистое лицо Адиля, его хитроватую улыбку, столь идущую хитрой детской ручке. – А кто это рядом с… торговцем?
– Так это же Фридрих. – И поскольку Леон недоуменно промолчал, она укоризненно воскликнула: – Я тебе рассказывала: Фридрих, мой немецкий дядя, вернее, дед… Он как раз тогда оказался в Иерусалиме, и я его прогуливала. Он обожает эти лавочки, ювелирки, антикваров… Готов шляться по всем свалкам до второго пришествия. А в той лавке мы вообще провели чуть не полдня: даже кофе пили раза три. Роскошная лавка была! Старичок, понимаешь, и коврами торговал… А Фридрих… это ж его тема – ковры.
– Я думал… – после паузы медленно проговорил Леон, преодолевая неистовый порыв тряхнуть ее, посадить перед собой и допросить по всем правилам. – Ты, кажется, говорила, что он немец? А внешность у него… не то чтобы слишком немецкая. Что-то восточное – в глазах, в скулах.
– Ну, он же и казах, – спокойно отозвалась она. – Наполовину. Как и я.
В гуле аэропорта возникла звуковая плешь. Просто у Леона заложило уши, на мгновение он оглох от смысла этого слова, от его простого очевидного смысла, от догадки…
– Ка…за-ах? – медленно переспросил он, выпрастывая свою ладонь из-под ее руки, пытаясь унять взмыв дикой смеси ликования и отчаяния.
– Ну да, это длинная семейная история, – сказала она, словно отмахивалась от давно надоевшей чепухи. – Дед, война, немка там, в Берлине… их безумный роман. Такой телесериал, только взаправду. Ну, и родился Фридрих, который потом-потом, сто лет спустя, разыскал нас. В Казахстане…
«Разыскал нас в Казахстане…»
– …Казахстан – второе место в мире по запасам урана, и они ежегодно наращивают добычу и обогащение…
– …в девяносто шестом в печати мелькнуло, что Казахстан тайно продал Ирану три советские ядерные боеголовки…
– …Крушевич учился на отделении ядерной физики в МГУ и после диплома получил направление в Курчатов, на Семипалатинский полигон…
– Казах… – повторил Леон завороженно. И, добивая тему, спросил: – Как же ты говоришь с ним? По-английски?
Она невесело усмехнулась, дернула плечом:
– Я с ним давно уже ни по-каковски не говорю. После одного происшествия… Но вообще-то, знаешь как он чешет по-русски! Как мы с тобой. Он же учился в Москве – давно, конечно. Ну, у него и жена русская. Елена…
Вот, собственно, и все, что требовалось узнать.
Секретарша в офисе компании Иммануэля утверждала, что Андрей Крушевич говорил по-русски, называя собеседника «Казак». Девочка просто ослышалась, обозналась. Казак-Казах… Казах-Казак…
Да какая разница! От тебя требуется лишь поскорее сообщить кое-кому эту новость, пустить кое-кого по следу. Ты сделал огромное дело, и ты – частное лицо, ты – артист, конец маршрута…
Откуда же это обреченное чувство потери? А вот откуда: оказывается, хитрый лис, ты в глубине своих подлых потрохов все же надеялся удержать при себе эту свою глухую находку! Вернуться, разыскать, схватить и бежать… Вот только – где вы оба укроетесь?
Зато теперь ты здраво осознаешь, что просто обязан отвалить из ее жизни. Ты и так слишком близко подобрался к жерлу вулкана. Слышишь? Вы с ней, с твоей глухой канарейкой, сейчас на равно опасном расстоянии и от Казаха, и от конторы…
Когда Айя собралась погнать цветных рыбок дальше, Леон рукой накрыл ее ладонь.
– Погоди, – сказал он. – Мне нравится эта картинка. Так много деталей, столько… всяких диковинок. Хочется рассмотреть. Ты не могла бы мне ее подарить?
– Да ради бога, но в этой много мусора. Эта не имеет художественной ценности.