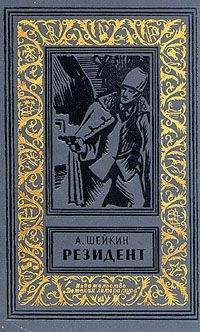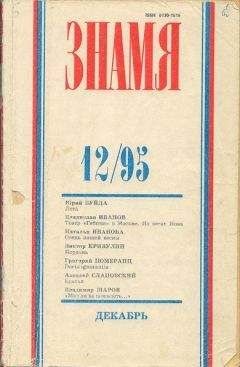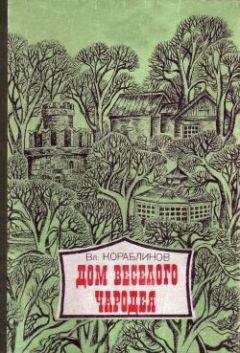Владимир Шаров - Воскрешение Лазаря
Мне скажут, ну, хорошо, допустим, они и вправду стояли у всех на дороге, действительно были помехой, почему нельзя было не мучить их, не издеваться, а сразу расстрелять? Я отвечу. Мы пытали не потому, что садисты, не потому, что нам нравилось смотреть, как подследственный в собственной крови и блевотине ползает у наших ног, и не для того, чтобы его растоптать, мы требовали от арестованного буквально вывернуть себя наизнанку, рассказать, кто, где, почему; заставляли заложить и предать всех, кого он когда-либо знал, с кем был дружен или вместе работал, и лишь тогда позволяли умереть. Нет, прежде чем дать уйти, мы были обязаны до последней капли уяснить всю его подноготную, обязаны были знать арестованного лучше, чем его знала мать и нянька, жена и любовница. Без этого нам никогда не воскресить казненных такими, какими они были. Миллионы папок следственных дел, которые будто зеница ока хранятся в нашем архиве – подробнейшая топографическая карта человека, на ней обозначен каждый овраг и источник, каждый холмик и тропинка, и именно на нас, на чекистах, теперь лежит задача, пользуясь этой картой, в целости, сохранности, главное же, в полноте всех до одного подследственных воскресить для новой жизни.
И последнее. Наверху, – начальник областного НКВД указывал пальцем на небо, – принято принципиальное решение: признать советский суд „Страшным судом“ и, соответственно, без изъятия зачесть арестованным страдания, которые они приняли из наших рук. Больше они страдать не будут, ад для них кончился навсегда, пришло время воскресения, время вечной жизни».
Ты, Анечка, конечно, видишь, что многое из сказанного тогда народу восходит к Колиному волоколамскому письму, однако если у Коли яркие, но, увы, оторванные от земли мечтания, здесь все додумано и докончено – словом, готово для реальной, практической жизни. Видна рука Спирина. Вообще их союз был на редкость естествен и обоим явно на пользу.
Еще когда чекист говорил, в толпе, окружавшей помост с висельником, началось странное, похожее на броуновское, движение. Какие-то люди без суеты, но твердо и неуклонно с разных сторон пробирались ближе и ближе к виселице. Скоро они оттеснили добровольцев, только и ждущих знака, чтобы выбить козлы из-под ног НКВДешника, и, едва тот закончил последнее слово, народ, еще недавно спаянный ненавистью, единый, вдруг обнаружил, что висельника окружает кольцо защитников, готовых пойти на смерть, лишь бы не дать ему погибнуть. И это, Анечка, были отнюдь не спиринские чекисты.
Думаю, ты скажешь, что, наверное, одна часть народа ему поверила, а другая – нет? Ошибаешься; поверили все, на краю могилы врать мало кто осмелится, да и говорили НКВДешники с редкой убежденностью. Тем не менее их речи раскололи народ столь же глубоко, как недавняя Гражданская война. Что же произошло, и кто из прежних врагов встал теперь на защиту чекиста, был согласен за его жизнь отдать собственную? Ты удивишься, Анечка, но ими были родственники казненных и погибших в лагерях. Поверив НКВДешнику, они поняли, что, если его повесят, они второй раз, причем теперь окончательно, бесповоротно отправят близких на смерть. Казнят их так, что не поможет ни реабилитация, ни спасение; убьют не только родных, заодно и всех общих предков, потому что линию рода, коли она прервалась, больше не склеить. Убитый не восстановит своего отца, тот – своего и далее, далее. В будущем счастливом мире, где люди будут жить, окруженные семьей, родными, жить родом, лишь они останутся печальными и неприкаянными; и все потому, что однажды поддались гневу и на кровь ответили кровью. Спирин, конечно, рассчитал все гениально.
Кстати, Анечка, не думай, что это было минутным настроением, забегая вперед, скажу, что тогда же, причем сразу по всей стране возник трогательный и одновременно торжественный ритуал «приема в члены семьи» следователя, который вел дело погибшего. В газетах, по радио происходившее освещалось любовно и на редкость подробно. Чекист становился на колени перед старшим в семье, и тот, прощая и благословляя, клал ему на голову руку. Дальше следователь вставал и целовался с каждым из новых родных, сначала в лоб, потом в губы, затем по очереди в правую и левую щеки. После четырехкратного целования он делался не просто член семьи, а как бы заменял ей покойного. В свою очередь, его долг был, не жалея ни сил, ни времени, главное же – раньше собственного отца воскресить им убитого.
Однако к тридцать четвертому году замученные НКВД были еще не в каждой советской семье; остальные, хотя и выслушали покаяние чекиста с сочувствием, как и раньше, требовали его казни. В общем, положение было неустойчивым, дело могло повернуться в любую сторону. Спирин это предвидел и знал, что если он не желает новых жертв и новой гражданской войны, необходимо что-то немедленно предпринять, иначе все опять кончится кровью. К счастью, нужный козырь у него был.
Пока две половины народа, набычившись, стояли друг против друга, и любая искра, любое резкое слово готово было начать побоище, один из спиринских людей как-то легко, нигде и никого не задев, не толкнув, проскользнул через кольцо родственников и, взобравшись на помост, встал рядом со своим бывшим начальником. Только тогда его наконец заметили. Люди поняли, что им хотят сказать нечто важное, и повернулись к нему. Они не ошиблись.
«Вы наверняка читали в газетах, – после короткой паузы заговорил чекист, – что полгода назад была раскрыта и обезврежена подпольная диверсионная правотроцкистская группа в составе первого секретаря ЦК компартии Украины Косиора Станислава Викентьевича, первого секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б) Постышева Павла Петровича и Народного комиссара железнодорожного транспорта Кагановича Лазаря Моисеевича. Опаснейшая группа, которая по заданию британской разведки совершила множество актов вредительства на производстве и транспорте. В результате беспристрастного рассмотрения их дела в суде, – продолжал он, – и учитывая тяжесть содеянного, всем троим обвиняемым был вынесен смертный приговор. Решение суда народ поддержал единогласно. Тогда же он был приведен в исполнение.
Следствие по делу Косиора, Постышева и Кагановича вели: комиссар Госбезопасности второго ранга Иван Христофорович Толстиков, комиссар госбезопасности второго ранга Натан Леопольдович Коган, комиссар госбезопасности третьего ранга Федор Евграфович Лебедев; в исполнение приговор привел Копченко Андрей Кузмич. Запомните имена каждого, потому что в результате их упорной, не прерывающейся ни на один день работы впервые после распятия Христа на земле было совершено чудо – воскрешен человек, давно лежащий во рву с пулей в затылке. Более того, впервые в истории воскрешен он был не Богом, а самим человеком.
Этим воскресшим, – чекист теперь говорил, медленно и торжественно чеканя каждое слово, – стал любимец народа „железный комиссар“ железных дорог Лазарь Моисеевич Каганович. Наш Лазарь! – возгласил он громко. – Кто хочет увидеть происшедшее чудо воочию, – продолжал он уже спокойнее, – тому следует отправиться на железнодорожный вокзал города. Как мне десять минут назад сообщили из Москвы, скорый поезд с Лазарем Моисеевичем, идущий оттуда во Владивосток, проследует мимо перрона городского железнодорожного вокзала по первому пути ровно через полтора часа».
Ясно, Анечка, что время везде было свое. Однако важно не это, а то, что второй раз повторять сказанное нужды не было: минуту спустя на центральной площади, кроме двух чекистов, не было ни души – остальных будто ветром сдуло.
В России тогда было примерно тридцать тысяч верст железных дорог и жило примерно сто пятьдесят миллионов человек. Значит, округляя, по пять тысяч на версту. И вот без преувеличения все, не исключая немощных стариков и грудных младенцев, собрались и выстроились по обе стороны железнодорожных путей, чтобы увидеть воскресшего Лазаря Кагановича.
Заметь, Анечка, что Коля без особого успеха потратил на собирание народа пятнадцать лет, а Спирин собрал его за день. В Сибири люди стояли в один ряд, в Средней же Азии, где железных дорог было немного, а люди жили густо, вдоль путей тянулась нескончаемая лента в двадцать, а то и в тридцать рядов толщиной. Еще больше народа было, естественно, в Москве и Ленинграде, Нижнем Новгороде и Свердловске.
Рельсы начинают звенеть раньше, чем человек с самым тонким слухом может различить паровозные гудки. Те, кому посчастливилось стоять возле железнодорожных путей, то и дело становились на колени и, приложив уши к металлу, пытались разобрать, не едет ли поезд с Кагановичем. Они слушали, а остальные, чтобы не мешать, замирали, и только иногда кто-то, хоть на него и шикали, в нетерпении спрашивал: «Ну что, едет? Едет?!»
Приказом Спирина в стране тогда было полностью прекращено железнодорожное сообщение. Не ходили ни пассажирские поезда, ни грузовые, не было движения даже на местных одноколейках. Паровозы и вагоны были загнаны в тупики и депо, забили запасные пути, а по всем дорогам и на всех парах неслись сцепленные между собой два самых мощных из строившихся в России паровоза серии «К-17-51 м», к ним, в свою очередь, была приторочена высокая платформа с завернутым в кумачевый бархат гробом. На нем, попирая смерть, спокойно стоял Лазарь Каганович, и только его волосы развевались на ветру.