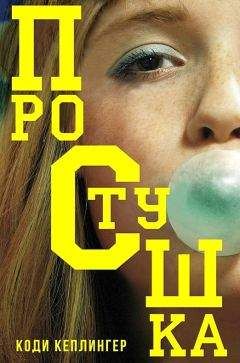Наталья Костина - Билет в одну сторону
Но пока ты ЗДЕСЬ, пока ты еще рядом, пока ты и я еще идем ВМЕСТЕ по нашему последнему отрезку пути, никто не посмеет указывать нам, что можно и что нельзя! Сейчас, в этой комнате, этой последней ночью я – не врач. К черту все медицинские процедуры, врачебную этику и сами приличия тоже к черту! Я буду сегодня делать то, что захочу. Если я не сделаю этого, я буду думать и жалеть об этом – всегда.
На тебе под одеялом ничего не было, кроме памперсов и этих дурацких трубок, но это мне не мешало. Я тоже сняла с себя все – чтобы почувствовать ТЕБЯ всей кожей. Я погасила свет и тихонько легла рядом. Простыня была холодной, а ты – таким теплым. Я провела ладонью по твоим отросшим волосам, тронула пальцами твое лицо – я знала его наизусть, но это была новая степень узнавания – наощупь, в темноте. Я провела линию от твоего лба вниз, к губам, и осторожно положила голову тебе на грудь. Я впервые услышала, как бьется твое сердце, – не через стетоскоп, а просто ухом… как слегка поскрипывают твои ключицы – моя голова давит на них и, наверное, мешает тебе дышать. Но нам осталось так мало, потерпи, пожалуйста, меня рядом, мой родной… Я положила свою ногу на твою, а свободной рукой обняла тебя – и представила, что мы с тобой занимались любовью и вот теперь ты уснул… а я не могу спать. Я хочу лежать рядом и слушать, как глухо и редко бьется твое сердце. Я буду лежать тихо, так, чтобы не разбудить тебя… не помешать тебе.
Ты пах единственным запахом на свете – запахом МОЕГО мужчины, и это тоже было открытием. И я знала точно: у тебя на всем белом свете тоже есть только одна я. Нет ни жены, ни невесты… никто не имеет права меня ни в чем упрекнуть… только я сама. Я сама! Эта мысль резанула меня так сильно, что я едва не вскрикнула, зажав рот ладонью. Я САМА во всем виновата. Я дала тебе второй шанс на жизнь. Я запустила твое сердце. Но сердце – это еще не все. Это только мотор, сильная мышца, перекачивающая кровь… Я мотала головой, плакала и вскрикивала:
– Нет… нет! Я не пущу тебя ТУДА! Не пущу!!! Ты не смеешь уходить! Не имеешь права!
Сердце – мое собственное сердце, которое лишь мышца для перекачивания крови, – болело и резало так, что перехватывало дыхание. Где же она помещается, эта проклятая человеческая душа, где же живет любовь, если не в сердце?! Я, наверное, сошла с ума – не глядя ни на какие трубки, датчики и приборы, я трясла тебя за плечи, я рыдала, я просила – нет, я требовала, чтобы ты сказал хоть слово, чтобы ответил мне, чтобы посмотрел на меня хотя бы сегодня:
– Хотя бы сегодня!! Сейчас! Один раз! Только взгляни на меня! Я люблю тебя! Я люблю тебя больше жизни!
Я бушевала, словно гроза, запертая в одной тесной комнатке. Наверное, я выплеснула столько энергии, что приборы зашкалило. Но даже грозы рано или поздно иссякают. И я понимала, что можно сколько угодно кричать, плакать, выть, рыдать… Можно просить и обещать выполнить все на свете, но все это будет бесполезно. Потому что никто не услышит, никто не придет на помощь. Но я все равно кричала и плакала. Отплакав, я принялась молиться. Я не знала ни одной церковной молитвы, хотя не все ли равно, какие слова ты говоришь и на каком языке, когда они идут из самого сердца? Из того места, которое не мышца, но вместилище бессмертной души. Которая будет той самой звездой – невидимой сегодня в черной, смоляной мгле.
Я обещала – и твердо знала, что МОГУ выполнить все, что от меня потребуют. Отдать тебе свою кровь, свое дыхание… всю себя целиком. Ждать тебя тридцать лет и три года или сколько потребуется. Истоптать семь пар железных сапог и изгрызть не только собственные губы, но и семь железных хлебов. В порошок. В звездную пыль. Потому что я уже была не врачом. Я была твоей женой, невестой, любимой… твоей второй половиной… Ты был целым, а я – твоей частью. Евой, вышедшей из твоего ребра. Я не могла тебя отпустить – тогда умерла бы и я сама. Потому что часть целого умирает вместе с самим целым. И меня не будет, если ТЫ умрешь… Вот так невзначай ко мне пришло главное знание: если ты умрешь, меня тоже не будет. Как же я раньше этого не поняла? Это было так просто и ясно, что я даже улыбнулась.
ЕгорДаже во сне я снова шел все той же последней дорогой. Я проживал эту ночь снова и снова: кружил по туману, находил рядом с грузовиком разбитую снарядом «скорую», выволакивал оттуда носилки… Я поднял оранжевую коробку аптечки, отброшенную взрывной волной далеко от убитой женщины-фельдшера, и вколол обезболивающее – себе и ему – тому, кто до сих пор лежал без сознания у перевернутого, как огромная детская игрушка, грузовика. «Нэ кыдай мэнэ, братыку…» И вокруг то и дело пели телефоны у мертвых, которым хотел дозвониться кто-то живой. Я нашел бутылку воды. Рука не болела – ее как будто вовсе не было. Я словно перешел какой-то предел и начал существовать вне своего тела: мне больше не нужны была вода и еда, я хотел только одного – дойти сам и донести его. Живым. «Нэ кыдай мэнэ, братыку…» Не бойся, я тебя не брошу.
Я полил немного ему на лицо – он очнулся и стал жадно слизывать капли с губ.
– Не пей много…
К ручкам носилок я привязал ремень и осторожно перевалил на них раненого. Положил рядом с ним все, что нашел: воду и завернутые в пакет шприцы из аптечки. Я помню, как подумал и вколол себе и ему по полному шприцу антибиотика. Я ничего не понимал в медицине, но, наверное, это было правильно. Как и дорога, которую я выбрал. Только вперед. Потому что обратного пути просто не было.
Волокуша тряслась по неровностям почвы, он застонал. Друг мой, брат мой, терпи… Мы выйдем, мы выживем… Мы переживем эту войну. Внезапно я встал, как будто пораженный громом: телефоны! У НИХ – у убитых – были мобильники! Я могу позвонить кому-нибудь… живым на том конце связи. ТАМ знают, куда ехали эти люди! Нас найдут! Нас заберут… Сколько же я умудрился пройти, что потерял из виду все: и поле, окутанное туманом, и разбитые машины, и мертвую женщину-фельдшера со светлыми волосами, намокшими от тумана? Как я мог потерять из виду тех мертвых, у которых были телефоны с живыми голосами внутри?! Носилок тоже уже не было: наверное, они сломались. Или протерся брезент… да, точно, протерся и разорвался брезент. Но я все-таки сумел взвалить его на плечо. Значит, будем идти дальше. Без телефонов. Без звонков куда бы то ни было. Если найти дорогу, а потом идти по ней, то рано или поздно можно куда-нибудь прийти. Все дороги ведут в Рим. Или в рай… я точно не помню, да это, наверное, и не важно.
Я увидел ее издали: ярко-розовую точку под деревом. «Нэ кыдай мэнэ, братыку…» Он уже не стонал. Не мог. Часов у нас не было. Время перестало существовать. Но я знал, что нужно идти. По этому неровному полю – просматриваемому и простреливаемому от горизонта до горизонта. Позади нас остались километры длиною в жизнь. В вечность. Километры и пустые шприцы от обезболивающего.
Розовый детский рюкзак стоял, как будто видение. Мираж – в пустом поле не бывает детских розовых рюкзаков. Вертлявая рыбка на нем вдруг повернулась боком и плеснула хвостом: «Дядя, это у вас настоящая шоколадка?» Это мираж… фантом… галлюцинация. Нет, все настоящее: и бутылки с водой, и яблоки, и бутерброды с тушенкой… и даже желтые, солнечные шарики аскорбинки, словно вынырнувшие из моего детства. Мы просидели под деревом час, может быть, два, а может – десять минут… я не знаю.
– На, поешь…
– Тяжко тобі?
– Нет… не тяжело.
– Кинь мене тут. Йди сам.
«Нэ кыдай мэнэ, братыку…» Я помотал головой:
– Мы дойдем. Найдем наших… своих.
Как это у меня вырвалось? Наших? Наших тут нет. Наши стреляли в меня, они положили питерского в ряд с убитыми и снимали все это на камеру. Он лежал мертвый, вместе с такими же не нужными никому добровольцами, как и я… Мы – балласт, винтики, которые сломались. Мы захотели вклиниться в систему, и она поставила нас на место: хороший винтик – мертвый винтик. Наверное, я все-таки брежу…
– Водички… попить.
– Не пей много.
Кажется, я это уже говорил? Когда? Где? «Дядя, это у вас настоящая шоколадка?» Ленточка. Лента на моем рукаве была вся в крови. И я ее потерял. Но вторая – тут, в кармане. Кукла. Тетрадь. Лишний вес. Выбросить? Нет, нельзя… надо вернуть. Кому? Ленту, шоколадку… надо вернуть это все девочке с косичками. Кукла тоже ранена. У нее нет ноги. Дырка. Видно насквозь. Нора, в которую падала девочка Алиса. Или не Алиса? Как ее звали, девочку с косичками? Я же точно знаю, она говорила! «Вы нас тоже убьете?» Вход в другое пространство. Другое измерение. Другая страна. Другой мир. Я расту? Нет, просто я изменяюсь. Паспорт. Здесь этого нельзя. Найдут. Меня найдут свои, которые чужие. И положат рядом с питерским. Винтики все должны лежать в одной коробке. А паспорт пошлют маме: «Ничего не знаем, он приехал сюда сам. В отпуск». Это игра. Кто не выжил – тот не виноват. Актеры любят играть в игры. Зачем мы все здесь? Свернуть старый мир в трубочку. Бросить в нору. Надо идти. «Дядя, это у вас настоящая шоколадка?» «Нэ кыдай мэнэ, братыку…» Не бойтесь. Я никого не брошу. Сразу за розовым рюкзаком – дорога. В рай? По дороге легче идти. Мы дойдем. Ноги идут сами. Опять стреляют? Перемирие же… Между мирами. Пере-понка. Пере-рыв. Разрыв. Пере-звон. В ушах звенит. Кажется, в меня опять попало. Хорошо, что я положил тебя на землю. Брат мой. Я тебя не оставлю. Все дороги ведут… они никуда не ведут. Нет никаких дорог. Сколько крови! Рука… это было смешно. Теперь больно везде. Люди убивают людей. Шприцов не осталось. Наконец-то свет! Яркая звезда впереди. Опять идем по полю – почему по полю, ведь была же дорога, я помню! Очень много людей. Все теснее и теснее. Возьми меня за руку, брат! Девочка с косичками. У нее есть мама. Не отпускайте ее одну! Почему так тесно? Пространство стремительно сужается, совсем как в песочных часах. Нас куда-то несет – прямо на свет, который впереди. Дороги нет, и всего одна дверь. Все хотят войти – но впустят только меня. Я знаю.