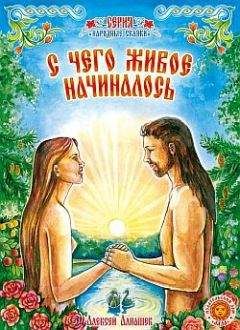Ада Самарка - Мильфьори, или Популярные сказки, адаптированные для современного взрослого чтения
Когда ясно стало, какой дорогой девчонка войдет в лес, Вольф, отдалившись метров на триста, пошел за девочкой, ведя ее, словно на корде. Он не чувствовал одышки и подагры, словно и не было этих лет, крался тихо-тихо, точно так, как крался тогда, летом 1914-го, раздразненный запахом первой крови, в высокой траве и камышах, на этой же самой земле. Иногда чуть опережая ее, иногда пропуская вперед, но ни на секунду не теряя из виду, срастаясь с ней, словно чувствуя ее дыхание, ее легкую хромоту (сапоги были большими, взрослыми, тяжелыми), даже ее страх.
Войдя в лес, следовал через хороводы зелени не спеша и в то же время быстро, большими легкими шагами, со снятым с предохранителя «вальтером», которым отодвигал лезущие в лицо ветки и кусты. Девчонка сначала брела по тропинке, которой пользовались грибники, но затем, покрутившись на полянке, уверенно пошла в чащу. Неужели прямо в партизанское логово? Вольф представил, как сам приходит к ним, один, просто в гости. Сам Вольф. Ему стало так смешно, что рука в кожаной перчатке, с «вальтером», невольно дернулась к губам, – чтобы не засмеяться, прижал к ним тыльную сторону запястья. Усмехнулся и почесал нос. Вариантов было два: кончить девчонку тут же и начать операцию не завтра на рассвете, а немедленно, свистать всех по тревоге в лес и вытравить партизан оттуда, выкурить, как зверей. Или проследить за ней максимально далеко, но как тут не напороться на партизанских сторожевых… Или, может, сперва поговорить с ней?
Увидев впереди поляну, Вольф сел там на самый высокий пень, вывернул наизнанку свой китель с черными ромбами на воротничке. Едва выйдя из кустов, девочка тут же заметила его – темное пятно среди поваленных деревьев, сгорбленный силуэт на поляне, залитой ровным серовато-молочным светом пасмурного утра.
– Кто тут? – Голос звучал испуганно, было ясно, что обычно встречали ее в этом лесу не так и не тут.
– А ты кто?
– Я Маняша из Самсоновки.
– А куда ты идешь?
– Я к бабушке иду, мама просила корзинку с хлебушком и луком отнести.
– А что за бабушка?
Он говорил тихо, с хрипотцой и совершенно без акцента.
– В лесной избушке живет, на старом хуторе, старуха Носова, знаете?
– Чего ж не знать, знаю!
– Это моя бабушка. Она хорошая, только болеет часто. И совсем одна. Но у нее ружье есть – кто не знает и дверь откроет, так ружье и выстрелит! А нужно постучать три раза, потом еще два и стишок рассказать, а после за веревочку дернуть – дверь и откроется, а ружье стрелять не будет.
– Стишок? Какой стишок?
– Ходыть сон коло викон, а дримота коло плота.
– А что мама просила тебя ей сказать?
Маняша вдруг сжалась, прижала к груди корзинку. В этом «просила» и «сказать» померещилась склизкая тень чего-то знакомого и страшного.
– А вы кто?
– Я тут живу.
– В лесу живете?
– Да.
Маняша хотела спросить еще что-то, но передумала, стала щуриться, оглядываясь по сторонам.
– До свидания!
– Ступай…
И, подхватив корзинку повыше, пошла быстрым шагом, почти бегом.
Мир в лесу отличается от остального мира: тут, среди запахов сладковатой лиственной прели, тишины над головой, казалось, не может быть опасностей, как за стенами неприступного замка. Маняша, сколько жила, никогда не видела в лесу немцев. Ей казалось, что по каким-то причинам немцев в лесу не бывает. И мама никогда не говорила ничего про немцев в лесу или что там могут быть нехорошие люди. Наоборот же, именно от них в лес всегда и бежали.
Дом старухи Носовой Вольф знал прекрасно. Это была просто неприятная старуха, Die Waldhexe, как он называл ее про себя. Она выдала нескольких партизан – опоила их чем-то и уложила спать. За это ее не трогали. Страшная была, как смерть. Вольфу казалось, что ее сами партизаны кончат, а тут – совсем все неожиданно обернулось.
До ее дома оставалось еще минут сорок быстрой ходьбы. Вольф обогнул поляну и отдалился так, чтоб девчонка не услышала его, затем легким бегом, отбрасывая ветви «вальтером», пустился сквозь чащу к знакомой опушке с неприятным домиком. Прибежав на место, огляделся, посидел в кустах какое-то время. Обошел кругом. Никого. Еще раз огляделся и, как был, в вывернутом наизнанку кителе, постучал в дверь – три раза, потом еще два и хрипловатым детским голосом сказал: «Ходыть сон коло викон, а дримота…»
– Заходь! – донеслось из домика.
Вольф еще раз оглянулся и дернул дверь на себя, резко отпрыгнув в сторону. Раздался выстрел и задымило. Двумя большими прыжками он подскочил к кровати, на которой лежала действительно больная, с рассыпавшимися по подушке седыми горгоньими волосами старуха Носова, без всякого удивления глядевшая на него из глубоких серых глазниц, как сквозь маску, прямо из черепа, обтянутого светлой сморщенной кожей, похожей на прохудившийся чулок. Прыгнув на нее сверху, Вольф мгновенно переломал хрупкие крошащиеся косточки на дряблой шее, стянул ее с кровати – тщедушное тельце под серой льняной сорочкой было как тряпка, только голова, словно из сырой глины, положенной в мешочек, глухо стукнулась о земляной пол.
Спрятав старуху в шкаф, Вольф наклонился за выпавшим оттуда бельем и замер вдруг с серой, но совершенно новой льняной сорочкой в руках. Покосился по углам в поисках зеркала. Конечно, у старухи его не было. Сорочка была великолепной – именно такой, домотканой, из плотного мягкого льна в бугорках, с серым незатейливым кружевным обрамлением, точно как у русоволосых полек, застигнутых в домах ранним утром в первые дни наступления. Там же, в стопке выпавшего белья, лежал и почти новый льняной чепчик. Тут, на Украине, Вольф знал это точно, чепчиков не носили, и воспоминание, словно приправленное душицей узнавания, разгладило морщины на лбу, расслабило руки в лайковых перчатках. Вольф прошелся по комнатке, пнул сапогом сундук возле печки, заглянул под лавки, застеленные ковриками, сунулся на чердак, но лестница опасно затрещала. Потом улыбнулся, торопливо стянул перчатки, сапоги, ремень и китель, подкатал брюки и влез в похоронную бабкину сорочку, накинул на плечи ее пуховый платок, пахнувший немытой шерстью, на голову надел чепчик. Прошелся вдоль окон и залез под одеяло, хранящее еще теплый сырой старухин отпечаток. Этого от него не ожидал бы никто. Но недаром ведь он был штандартенфюрером Вольфом и прошел невредимым две войны.
Очень скоро в дверь постучали – конечно же, напрочь не так, как стучал он: медленно, нерешительно, – и Маняшин свежий голосок запел: «Ходыть сон коло викон, а дримота коло плоту…» и потом произнес: «Я пришла, бабушка».
«Дерни за веревочку, дверь и откроется», – тихо сказал Вольф почти без акцента.
Дверь открылась, стукнула, потом со скрипом закрылась, щелкнула скоба. Маняша вошла, озираясь по сторонам, обеспокоенно принюхиваясь, – старое ружье ведь выкашливало целое облако едкого дыма.
– Бабушка… чем это пахнет?
– Косточки совсем болят… печку топила.
Маняша поставила корзинку на стол, нерешительно подошла к кровати, кося своими невидящими глазами, как всегда, куда-то в сторону.
«А ведь она и не совсем уже ребенок», – мелькнуло в голове у Вольфа. Платье, в котором девочка ходила, наверное, лет с пяти, подпоясанное материнским ремнем, было совсем коротким, грубые коричневые чулки в дырах сползали с упругих, гладких бедер. Руки с тонкими запястьями теребили потрепанный подол.
«Интересно, что у нее там сверху», – подумал Вольф по-русски, мельком припомнив эпизод в одном из галицких сел.
– А сядь, сядь сюда поближе, что-то я совсем слепа стала, дай рассмотреть тебя.
Красная Шапочка нехотя присела на край постели, принюхиваясь, нервно потерла коленками. Вольф высвободил из-под одеяла одну руку и положил ей на плечо.
– Бабушка, ну почему же у тебя такой голос?
– Болею я…
Напряженно ерзнув под его рукой, Красная Шапочка снова нюхала воздух.
– Мама говорит, война скоро закончится, у нас там война… а в лесу войны нет. Если бы все могли уйти в лес – не было б войны!
– Это правда…
– Бабушка, почему же тут так странно пахнет? И не тепло…
– Болею я. Печку протоплю – тепло, а дышать нечем. Дышать мне трудно. Открою дверь – так холодно.
– Бабушка, что с твоим голосом? У тебя никогда не было такого голоса!
Рука с плеча переместилась ей на грудь, остановилась там, поглаживая.
«Лет двенадцать, – подумал Вольф. – И такая дура…»
– Немцы мою куколку сожгли, – сказала она, чуть расслабившись. («Неужели и бабка гладила ее так?») – Мне папа из дерева сделал, ручки-ножки двигались, мама платье ей сшила. А они сожгли. И папы нет… Хорошо, что ты в лесу живешь. Жаль, мама не может сюда прийти жить. Тут хорошо. Если бы мы тут жили…
– Не плакай… – хрипло сказал Вольф, аккуратно снимая с ее плеч мальчиковую курточку в заплатках.
– Бабушка… ты какая-то другая сегодня, мне страшно, я в лесу человека непонятного встретила… – Красная Шапочка протянула руки к невнятному серо-голубоватому пятну перед собой. Угадывались очертания чепчика, рта, глаз – размытые пятна. Коснулась лица – кажется, носа.