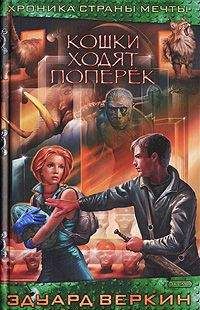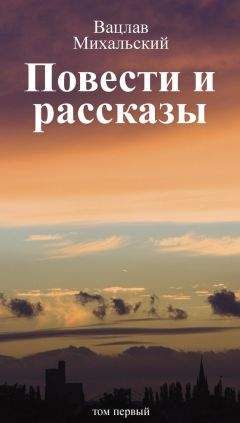Вацлав Михальский - Собрание сочинений в десяти томах. Том десятый. Адам – первый человек. Первая книга рассказов. Рассказы. Статьи
Итак, взяв машинописную рукопись книги «Алмазный мой венец» и дачный телефон Валентина Петровича, я как бы приступил к исполнению редакторских обязанностей. Моего рабочего места мне пока не указали. Но свободных столов и стульев в редакции было немало – редакторы ходили на службу не каждый день, а только два раза в неделю. Как потом выяснилось, я сел за стол Володи Маканина, за ним и прочитал первую в моей жизни рукопись, отданную мне на редактирование. Прочитал, как научила меня тогда же заведующая редакцией Валентина Михайловна Вилкова, с мягким карандашом в руках, который она же мне и дала. Многим я восхитился, многого я не знал, а кое-что смутило. Таких мелких «смущений» я насчитал двенадцать и подумал, что хорошо бы их разъяснить и подправить. Особенно не понравился мне какой-то пассаж про Есенина, показавшийся грубоватым. Тогда я сделал по всему тексту 100 придирок, подумав, что с таким запасом должен взять нужные мне крохи.
На следующий день я приехал на дачу к Валентину Петровичу Катаеву. Местность я знал хорошо, поскольку как человек бездомный подолгу жил в Доме творчества, примыкавшем к улице, на которой жили В. П. Катаев и К. И. Чуковский.
Тогда дача Катаева показалась мне большой, хотя по сегодняшним меркам она была совсем маленькая, примерно 150 квадратных метров, включая оба этажа. Очень нешироко жили тогда богатые и знатные люди, а Катаев, безусловно, относился к тем и другим одновременно.
Я как-то спросил у Валентина Петровича:
– А почему Вы не купили большую дачу на Черном море? Денег ведь хватало и на пятое, и на десятое.
– Хватало, – ответил Катаев, – но как-то привыкли жить с чемоданчиком наготове… – Дальше Валентин Петрович не стал распространяться, но я понял, о каком «чемоданчике» он говорил. О том самом, где на известный случай сложены вещи первой необходимости: теплые носки, белье, мыло и далее по списку…
Итак, пришел я к Катаевым, и Валентин Петрович пригласил меня к себе в кабинет на второй этаж. Кабинет был небольшой, обставленный аскетично: узкая тахта под клетчатым пледом, маленький шкаф с книгами за стеклом, еще несколько книжных полок на стене из тех, что тогда назывались «чешскими», большой стол на ножках без тумб, без ящиков, просто полированная столешница на ножках, стул у стола и еще один стул у стены. Свет из окна слева.
Стол был большой, и сидеть за ним вдвоем было просторно. Часа два или три мы листали рукопись с моими карандашными пометками. Листали, обмениваясь очень короткими репликами, что-то вроде «да» или «нет». Все свои 12 придирок я «отбил», и отбил еще многие, но потом их стер ластиком. Пассаж про Есенина Катаев уточнил, сделал мягче и даже сказал мне: «Вы правы, так будет лучше».
Не знаю, о чем в эти наши первые два-три часа думал Катаев, а я время от времени вспоминал, что ночевать мне сегодня негде и надо бы пораньше отправиться на Курский вокзал, в камеру хранения которого я перед поездкой к классику отвез два моих «летающих» чемодана.
После того как мы закончили просмотр рукописи, я попросил Валентина Петровича подписать страницы с правкой и раскланялся.
– Может, останетесь, пообедаем, – предложил Валентин Петрович.
Я поблагодарил за предложение и еще раз раскланялся. Дело шло к сумеркам, а мне нужно было позаботиться о ночлеге. В следующий раз я увидел Катаева, наверное, через полгода. За это время моя долгая неустроенность стала вдруг решаться как бы сама собой. Я впервые напечатался в толстом московском журнале «Октябрь» – там была опубликована моя повесть «Печка». За эту повесть я тут же получил премию Союза писателей СССР имени К. А. Федина, получил однокомнатную квартиру внутри Садового кольца в тишайшем переулке и даже успел поставить телефон. Вскоре на этот телефон раздался звонок.
– Здравствуйте, Вацлав, – послышалось в трубке, – это Катаев. Поздравляю с премией. Говорят, вы хорошо пишете, можете привезти почитать?
– Привезу. Когда?
– Когда угодно.
Мы договорились, и я привез Валентину Петровичу, кажется, «Печку», «Катеньку» и что-то еще, по-моему, несколько коротких рассказов.
В тот день я первый раз обедал у Катаевых и навсегда запомнил их суп, а точнее, те тяжелые горячие серебряные ложки, которыми этот суп ели.
Мои работы понравились Валентину Петровичу, и время от времени он стал приглашать меня в гости. Иногда он расспрашивал меня о том о сем. Не помню, во второй или третий мой приезд гуляли мы с ним по его переделкинской улице, и он спросил:
– А что Вы думаете о писателе Икс?
В те времена писатель Икс был очень популярен среди технических интеллигентов и критиков того направления, которое считалось, по их мнению, единственно правильным. Икс писал, так называемую «городскую прозу». Я никогда ничего о писателе Икс не думал, о чем и сообщил Катаеву.
– А все-таки? – приостановившись на заснеженной улице и пытливо взглянув мне в лицо, спросил Катаев.
– А все-таки? Что сказать? Пишет Ваш Икс тускло, а эта его идейка насчет того, что раньше были хорошие большевички, которые бегали с сабельками наголо и рубили людям головы, а теперь они испортились и стали гораздо хуже прежних, – эта его идейка мне совсем несимпатична. Фальшивая идейка.
– Да? Вы так думаете?! – Как мне показалось, очень искренне удивился Катаев, и мы пошли дальше по зимней переделкинской улице, дошли до поворота направо и развернулись, чтобы шагать назад, к катаевскому дому.
Больше ни о писателе Икс, ни о современной литературе мы никогда не говорили с Катаевым, но я не мог не почувствовать, что его отношение ко мне с тех пор изменилось в лучшую сторону. Валентин Петрович стал относиться ко мне с несомненным доверием и интересом.
Помню, как однажды Валентин Петрович показал мне большую серебряную медаль Академии Гонкуров. Я с удовольствием понянчил в своих ладонях эту увесистую серебряную штуку с барельефом знаменитых братьев. Дело в том, что Катаев был единственным русским писателем – членом Гонкуровской Академии. Он с детства говорил по-французски и часто, по-моему, каждый год, ездил в Париж, в театрах которого шли его пьесы.
И еще он рассказал мне, что заседания Гонкуровской Академии лишены всякого официоза и обычно проходят в кабачке. Помню, что мне это очень понравилось.
Помню и то, как Валентин Петрович дал мне почитать у себя на веранде рукопись повести «Уже написан Вертер…». К тому времени ничего более антисоветского я не читал. Даже «Один день Ивана Денисовича» меркнул в призрачном вымороченном свете этой маленькой повести о том, какой тонкий слой папиросной бумаги отделяет человечество от одичания.
– И что, так и было в Вашей Одессе? Так и ходили они в своих кожаных куртках и расстреливали из своих маузеров кого хотели или кто просто попадался им под руку? – спросил я Катаева.
– А Вы думаете? Все так и было. Скоро напечатают в «Новом мире».
Я с сомнением пожал плечами и ошибся. «Вертера» таки напечатали в «Новом мире» через два месяца.
Напечатать-то напечатали, но нигде, во всей печати огромного СССР не просочилось даже крохотной заметки об этой страшной повести. Знаменитый писатель напечатал новую повесть в знаменитом журнале, и нигде ни ругани, ни хвалы – ни одной строчки!
Тогда я впервые понял, какое могучее оружие – фигура умолчания.
Хотя, справедливости ради нельзя не заметить, что элементы этой «фигуры умолчания» вокруг имени Валентина Катаева впервые обозначились еще после публикации «Алмазного венца». Очень много обиженных появилось в литературной и окололитературной среде. А как сказала мне недавно любимая внучка Валентина Петровича – Тина Катаева, самыми обиженными назначили себя родственники тех литераторов, кто не попал в «Алмазный мой венец». А не попавших были «тьмы», о существовании многих из них Валентин Петрович лишь смутно догадывался.
Вскоре три моих повести – «Баллада о старом оружии», «Печка», «Катенька» – собрались печатать в «Роман-газете», тираж которой был 3,5 миллиона экземпляров. К публикации в этом самом массовом издании художественной литературы полагалось предисловие, и я спросил Валентина Петровича, не сможет ли он его написать.
– Напишу, – сразу ответил Катаев. А помолчав, добавил: – Тяжелую дверь открыли Вы, Вацла́в. (Он всегда произносил мое имя с ударением на последнем слоге.) Предисловие Катаев написал и даже подарил мне его рукопись.
ЮРИЙ ПАВЛОВ. А она у Вас есть? Она сохранилась?
ВАЦЛАВ МИХАЛЬСКИЙ. Есть. Могу показать.
ЮРИЙ ПАВЛОВ. Это машинописный текст?
ВАЦЛАВ МИХАЛЬСКИЙ. Нет, Валентин Петрович писал от руки. Это рукопись в самом прямом значении этого слова.
ЮРИЙ ПАВЛОВ. А давайте напечатаем ее в нашей статье факсимильно. Современная техника это позволяет.
ВАЦЛАВ МИХАЛЬСКИЙ. Наверное, это будет интересно для литературных гурманов…