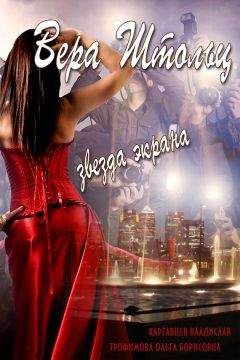Борис Носик - Дорога долгая легка… (сборник)
(«Что за идиот… – Марина прикусила губу. – Ну хорошо, меня он не знает, но Евстафенку-то должен. Откуда их набежало всяких, о Господи…»)
– Да, мы поэты, – сказал Евстафенко с достоинством. («Боже, как просто он держится, такой человек, ведь мог бы…»)
– И вы тоже? – Серенькая мышка с нескрываемым любопытством разглядывала Марину.
(«Ну да, баба она и есть баба, никогда другой женщине красоты не простит».)
– Непохоже? – Марина криво усмехнулась. – По-вашему, мы должны быть какие-то особые люди, похожие на монахов…
– Нет, – сказала та, кого звали Лилей. – Просто путь искусства – путь избранных людей, умеющих претворять воду в вино… – Глубокий голос ее дрожал, и Марина заметила, что Евстафенко смотрит на нее неотрывно.
– Хорошо сказано, – кивнул Евстафенко.
– Я всегда преклонялась перед этими людьми, – продолжала Лиля робко, словно извиняясь, и вдруг обернулась к Марине. – Прочтите вы что-нибудь… Я так робею. Сначала вы…
Евстафенко тоже обернулся к Марине («Наконец-то соизволил…»), сказал серьезно и просто:
– Почитай. У тебя прелестные стихи.
Марина не решилась читать взрослое и экспериментальное, черт его знает, кто эти плебеи и что они поймут. Она решила прочесть самое надежное, апробированное, детскую «Собаку-абаку». В этом был еще и чисто женский расчет: она знала, как нравится Евстафенке, когда она становится этаким огромным грудастым ребенком.
– «Собака-абака», – сказала она громко и убедительно, как тысячу раз говорила с эстрады дворцов пионеров и детских садов.
Жила была собака, огромная абака,
И поднимался в небо ее огромный хвост.
Он поднимался в небо и даже выше неба,
А дать бы бедной хлеба,
Он вырос бы до звезд…
Марина кончила и удрученно посмотрела на соседей. На черта она читала им? Как это могут понять люди, которые так далеки от поэтического подвала на Каланчевке, от блистательных эротических абсурдов Алены Гвоздиловой, от пародий Шапировского, от матерных импровизаций Мылина, наконец, от ее собственного голодного послевоенного детства? Для таких людей пропадают все нюансы, тонкий и абсурдный юмор, пусть бегут Доризо читают и Юлию Друнину, туда им дорога. Вон, гляди, как они растерялись оба…
– Да-а… – сказал толстенький сосед и снял запотевшее пенсне («Боже, еще и пенсне нацепил, с таким рылом – и пенсне, чего только плебеи не придумают, чтоб поближе к нам, к интеллигенции»). – Женская лирика… она всегда была… менее обременена идеями… («Боже, а язык-то какой канцелярский, профорг, наверное…»), но более глубока…
Серенькая мышка в упор посмотрела на своего друга, и он стушевался еще больше. Потом нагнул голову, словно собираясь бодаться, надел пенсне и сказал:
– Что ж… для меня всегда было идеалом («Господи, да кто ты такой, чтоб судить…») и в неценном найти ценное, и в неудачном открыть тайну неудачи… чтобы помочь… – Он закончил совсем тихо, так тихо и виновато, что Евстафенко пришлось подбодрить его.
– Ничего, ничего, валяйте, – сказал Евстафенко, но тут Марина крепко сжала его колено, и он понял, что ему пора выручать ее. – Ну а что, собственно, вы? – сказал он с молодым задором, за который так любили его на больших комсомольских стройках. – Вот вы! Может, вы почитаете свое… – Он обращался к серенькой мышке, и она вся сжалась, затрепетала, собралась в комочек, и оттуда, из комочка, донесся едва слышный, трепещущий голос, который после первой же строки стал слышнее, и глубже, и еще трепетней:
С моею царственной мечтой
одна брожу по всей Вселенной,
с моим презреньем к жизни тленной,
с моею горькой красотой…
(«Боже, какая наглость, чья бы корова мычала, и эта, доска – два соска, ни сиси, ни писи, тоже о своей красоте, – вот уж Богом обиженная, занималась бы арифметикой в начальной школе, и ведь уверена, что найдутся мужики, которые – куда вообще мужики смотрят, верно говорят, что только захотеть, всегда их может убедить та, которая в себе уверена…»)
Но спят в угаснувших веках
все те, кто были бы любимы,
как я, печалию томимы,
как я, одна в своих мечтах.
(«Ишь как Евстафенко на нее уставился, сейчас оставь их одних – и понеслась. И стихи какие-то бесконечные, она думает, что Марина, мол, встанет и уйдет, черта с два. Сапожников теперь еще часа два с Глебкой по Карадагу прошляется, так что никуда я не пойду, не для тебя столько труда загублено, не думай, голубушка».)
И я умру в степях чужбины,
не разомкнув заклятый круг.
Голос Лили дрогнул, перешел в едва слышный шепот:
К чему так нежны кисти рук,
так тонко имя Черубины!
Марина повернулась к ним спиной, она знала, что не двинется с места, однако произошло что-то нехорошее. Нет, она никогда не сдавалась, и она не уступит сегодня, потому что это просто абсурд, какой-то театр абсурда, как говорит Шапировский, а-ху-ху-не-хо-хо, спрашивает в таких случаях Мылин, или как у Алены Гвоздиловой в стихах: не угодно ли вам цыпленка в шоколаде… А эта все читала, читала, теперь уже шепотом, дистрофичка несчастная, что она там бормочет:
В слепые ночи новолунья
Глухой тревогою полна,
Завороженная колдунья,
Стою у темного окна…
Стеклом удвоенные свечи…
(«Ну да, теперь все при свечах, научились, теперь у всех поп-арт из подворотни и свечи, поднатаскались, никто и не вспомнит, что у них в подвале на Каланчевской у первых были свечи и швейная машина «Зингер» с помойки…»)
В темно-зеленых зеркалах
Обледенелых ветхих окон
Не мой, а чей-то бледный локон…
(«А жалко все же, что вот так складывается, не по-человечески, и Сапожникова тоже жалко, чего-то он чувствует, мается, но уж он-то ладно, должен платить за свое счастье, сколько лет ничего, ни гугу, а годы идут, и кто это оценит…»)
Кого так сладко ненавижу…
(«Это про кого же она так? Про какую-то женщину. Да, уж чего-чего, а ненавидеть, это наш брат женщина очень даже умеет… А что же мне, любить тебя, что ли, придет вот такая после всех трудов, и когда все у них так хорошо, так по-человечески, настоящая любовь, действительно ведь пара они с Евстафенко, редкий случай – и вот придет такая, доска два соска, а ты изволь, нет уж, не будет этого, скорее ты сама уйдешь, все вы уйдете, чем я с места двинусь…»)
– Они ушли, – сказал удивленно Евстафенко.
– Куда? – спросила Марина, стараясь проявить интерес.
– Не знаю… – Евстафенко был растерян. – Я даже не заметил, когда они ушли… Жалко. Я хотел пригласить их, чтоб они почитали… Чтоб она…
– Уж конечно, она… – сказала Марина, и голос ее дрогнул.
– Ну, ну… – Евстафенко улыбнулся, протянул руку за спинкой скамьи, погладил ее по заду.
«Давно бы так, – подумала Марина. – Нет, все-таки с ними, с мужчинами, нельзя как с равными, обязательно сорвутся».
* * *Маленький критик из Ленинграда с гордостью носил убедительную фамилию Кремнев. На многолюдном пляже он часто с грустным и снисходительным юмором отмечал, какой он, в сущности, маленький, и толстоватенький, и мало спортивный. Однако дома, садясь за стол, он с серьезностью примерял к себе эту грозную фамилию. Он был левый критик, он ненавидел мерзавцев и черносотенцев, однако ему все же удавалось при помощи незаурядного оптимизма и веры в незыблемые ценности прогресса как-то укладывать свои сочинения в жесткие рамки печатной полосы. Он гордился цензурными купюрами и таскал их за собой, как наиболее тщеславные из инвалидов войны носят орденские колодки и ленточки ранений. Купюр этих было не так уж много, и, грубо говоря, он всегда процветал. Когда редакции требовалось уравновесить слишком правое выступление чем-нибудь умеренно левым, Кремнев неизменно оказывался на этом симметричном фланге. Помогала еще и дружба с Евстафенко, которого он поддерживал еще в юности, на подъеме (о, славное было время – оттепель, эстрадные выступления, брожение умов). Кремнев уже тогда владел искусством разумной дозировки и журнальной борьбы: «Если вчера положил налево, сегодня дай им вправо, и завтра ты сможешь снова дерзать». Он до сих пор был увлечен этим балансированием и верил, что игра стоит свеч. Она давала возможность писать и печататься, быть в самой гуще борьбы, другими словами, делать литературу, а что может быть интереснее этого? И если какие-нибудь экстремисты, вроде Элика, говорили мерзости, то что такое Элик в конце концов, недолеченный псих-шизофреник, загубивший свой талант неверным подходом к миру…
В Коктебеле Кремнев бывал часто, и это каждый раз было славно: море, и досуг, и немножко работы, и солнце, и друзья, и враги, и новые знакомства, и новые союзники из разных городов страны. Заплатив деньги и приехав отдыхать, Кремнев отдыхал. Он не занимался самоедством, да ему и не в чем было себя упрекнуть.
На этот раз обстоятельства сложились поначалу довольно щекотливо. Поселившись в своем любимом семнадцатом коттедже, Кремнев со стеснением обнаружил, что его соседом по коттеджу является известный Денисов, тот самый ископаемый ортодокс, главный редактор журнала, говорят, довольно неглупый политик, но совершенный лапоть, точнее, даже валенок во всем, что касается литературы, человек со вкусом, который не сделал бы чести даже Всеволоду Соловьеву или Бог знает кому. Кремневу не раз приходилось резко полемизировать с авторами этого журнала, и вот теперь он оказался в соседстве с этим человеком, и надо было, вероятно, поддерживать с ним добрососедские отношения. Кремнев утешил себя тем, что в быту этот Денисов, кажется, человек терпимый, не склочный и тихий. Кремнев вовсе не склонен был к излишней подозрительности в отношении начальства, а, напротив, пытался найти положительные черты в этих людях, веря, что не зря, вероятно, они выдвинулись, значит, что-то в них есть такое ценное и общеполезное, что позволило им выдвинуться. Эта широта воззрений помогала ему уживаться с самыми разными издателями и редакторами: более того, не являясь человеком совершенно безупречным в анкетном отношении (фамилия Кремнев не уходила в глубь времен дальше второго поколения и являлась псевдонимом его отца), он ухитрился даже съездить однажды на экскурсию во Францию, что дало ему ощущение спокойной уверенности, сильно помогавшее в работе. И вот теперь, волею судеб очутившись под одной крышей с Денисовым, Кремнев стал отыскивать в нем достойные уважения черты. Денисов отнесся к соседу отечески любовно, и это было приятно: все-таки Денисов был большой человек в мире литературы. Кремнев часто думал о том, что много еще среди наших молодых литераторов неизжитого сектантства. Почему бы, например, им с Евстафенко не выступить однажды в журнале Денисова, подорвав тем самым изнутри позиции черносотенцев и мерзавцев? Почему отдавать журнал на откуп ретроградным идеям и бездарным писакам, вроде Валерки? Или записным хулителям и недоброжелателям, вроде Хрулева. Кремнев ни с кем не делился этой мыслью, он ждал, что Денисов раньше или позже придет к ней сам. Однако он понемногу наталкивал Денисова на эту мысль в их идиллических коктебельских беседах, по дороге из столовой или в столовую. Кремнев нащупывал общие пристрастия, общие предубеждения, и, поскольку Денисов все-таки был человек порядочный, они находились без особого труда. В случае же, когда Денисов нес уж что-нибудь из ряда вон допотопное, вроде, скажем, преимуществ романа, написанного бригадиром ударной стройки, перед романом, написанным человеком, чье социальное происхождение сомнительно, а образ жизни небезупречен, Кремнев лишь слегка пожимал плечами, как бы говоря: «Ну, воля ваша, Ермолай Тихонович, позвольте мне сохранить здесь свою, пусть даже несколько смешную и эстетскую, но свою собственную интеллигентскую позицию, раз уж ее подкрепляют примеры Пушкина, Лермонтова, Булгакова, Чехова, Алексея Толстого и даже Михалкова». Если же Кремнев способен был поддержать хотя бы частично позицию Денисова, он делал это с убежденной искренностью и блеском. В особенности его патриотическую позицию: тут уж что скажешь, все мы патриоты и больше всего на свете любим именно ее, свою родину, со всеми ее бескрайними полями, пригорками, косогорами и рододендронами. Поэтому, пропустив, к примеру, первую часть филиппики Денисова, направленной против мерзавцев, которые печатают свою низкопробную продукцию за границей или находят прок в разнузданных писаниях какого-нибудь Генри Миллера и прочих Набоковых, Кремнев воодушевлялся вдруг второй, позитивной частью его выступления и заявлял: