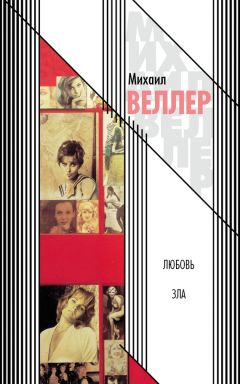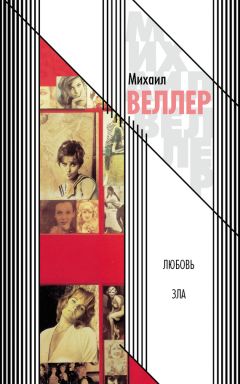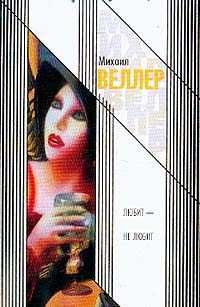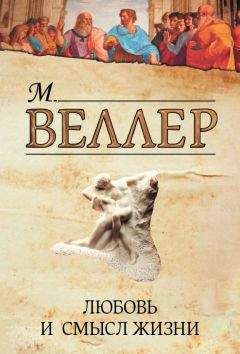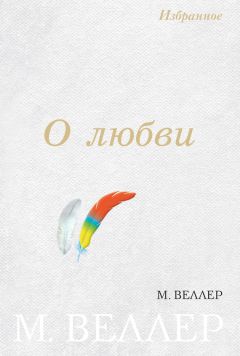Владимир Сорокин - Ледяная трилогия
– Ты чего, охуел? – открыл дверь водитель: 47 лет, худое морщинистое лицо, впалые щеки, стальные зубы, кожаная кепка.
– Извини, друг. – Боренбойм оперся руками о капот. Устало выдохнул: – Отвези в милицию. На меня напали.
– Чего? – зло сощурился водитель.
– Отвези, я заплачу… – Боренбойм вытер водяные брызги с лица. Полез во внутренний карман. Вынул бумажник, раскрыл. Поднес под грязную фару: все четыре кредитные карты на месте. Но как всегда, ни одного рубля. И? Еще одна карточка: VISA Electron. С его именем. Такой у него никогда не было. У него была VISA Gold. Он повертел новую карточку:
– What’s the fuck?
В углу карточки он разглядел написанный от руки пин-код: 6969.
– Ну, чего, долго стоять будем? – спросил водитель.
– Щас, щас… Слушай… а тут какая станция?
– Кратово.
– Кратово? – Боренбойм посмотрел на его кепку. – Новорязанское шоссе… Отвези в Москву, друг. Сто баксов.
– Так. Отошел от машины! – зло ответил водитель.
– Или до милиции… то есть до Рязанки… до Рязанки подвези!
Водитель захлопнул дверь. «Нива» резко тронулась. Боренбойм отпрянул в сторону.
Машина свернула за угол.
Боренбойм посмотрел на карточку:
– Блядь… дары волхвов… и с пин-кодом! Туфта, сто процентов.
Спрятал карточку в бумажник. Сунул его в карман. Пошел по улице. Мимо заборов и темных дач. Ежился. Сунул руки в карманы брюк.
В окнах одной дачи горел свет. Возле глухих ворот была калитка. Боренбойм подошел к ней. Дернул. Калитка была заперта.
– Хозяин! – крикнул он.
В доме залаяла собака.
Боренбойм подождал. Никто не откликнулся. Он крикнул еще раз. И еще. Собака лаяла.
Он зачерпнул мокрого снега. Слепил снежок. Кинул в окно веранды.
Собака продолжала лаять. Никто не вышел.
– И не князя будить – динозавра… бля… – Боренбойм сплюнул. Двинулся по темной улице.
Улица стала сужаться. Превратилась в грязную тропу. Зеленый и серый заборы сдавили ее.
Боренбойм шел. Тонкий ледок хрустел под ногами.
Вдруг тропа оборвалась. Впереди оказался резкий спуск. Грязный. С водой и снегом. И смутно виднелась неширокая река. Черная. С редкими льдинами.
– Кончен бал, погасли свечи, fuck you slowly…
Боренбойм постоял. Поежился. Повернулся. Пошел назад. Поровнялся с освещенным домом. Слепил снежок. Подбросил в воздух. Пнул ногой. И вдруг зарыдал в голос, по-детски, беззащитно. Побежал, рыдая. Вскрикнул. Остановился:
– Нет… ну не так… ооо, мамочка… ооо! Мудак… мудак ебаный… ооо! Это просто… просто… мудак…
Высморкался в ладонь. Всхлипывая, пошел дальше. Свернул направо. Потом налево. Вышел на широкую улицу. По ней проехал грузовик.
– Эй, шеф! Эй! – хрипло и отчаянно закричал Боренбойм. Побежал за грузовиком.
Грузовик остановился.
– Шеф, подвези! – подбежал Боренбойм.
– Куда? – пьяно посмотрел из окна водитель: 50 лет, грубое желто-коричневое лицо, кроликовая шапка, серый ватник, сигарета.
– В Москву.
– В Москву? – усмехнулся водитель. – Ёптеть, я спать еду.
– Ну, а до станции?
– До станции? Да это ж рядом, чего туда ехать-то?
– Рядом?
– Ну.
– Сколько пешком?
– Десять минут, ёптеть. Иди вон так… – Он махнул из окна грязной рукой.
Боренбойм повернулся. Пошел по дороге. Грузовик уехал.
Впереди показались фары. Боренбойм поднял правую руку. Замахал.
Машина проехала мимо.
Он дошел до станции. Возле ночной палатки с напитками стояли белые «Жигули». Водитель покупал пиво.
– Друг, слушай, – подошел Боренбойм. – У меня большая проблема.
Водитель недоверчиво покосился: 42 года, высокий, упитанный, круглолицый, коричневая куртка:
– Чего?
– Мне… надо тут дом один найти… я не запомнил номера…
– Где?
– Тут… тут рядом.
– Сколько?
– Пятьдесят баксов.
Водитель прищурил заплывшие поросячьи глазки:
– Деньги вперед.
Боренбойм автоматически достал бумажник, но вспомнил:
– У меня нет наличных… я заплачу, заплачу потом.
– Не канает, – качнул массивной головой водитель.
– Ну, погоди… – Боренбойм тронул грязной рукой свою щеку. Потом снял с левой руки часы:
– Вот, часы… швейцарские… они тыщу баксов стоят… понимаешь, на меня напали. Поедем, найдем их.
– Не играю в чужие игры, – мотал головой водитель.
– Дружище, ты в убытке не останешься!
– Если напали, иди в милицию. Тут рядом.
– На хер мне нужна милиция… ну в чем проблема, тыща баксов! «Морис Лакруа»! – тряс часами Боренбойм.
Водитель подумал, шмыгнул носом:
– Не. Не пойдет.
– Фу, блядь… – устало выдохнул Боренбойм. – И что ж ты такой неполиткорректный… – Огляделся. Других машин не было. – Ладно. Я их потом найду… Ну а в Москву хотя бы можешь отвезти? Дома я тебе дам рубли или доллары. Что хочешь.
– А куда в Москве?
– Тверская. Или нет… лучше – Ленинский. Ленинский проспект.
Водитель прищурился:
– За двести баксов поеду.
– О’кей.
– Но деньги вперед.
– Блядь! Но я ж тебе только что сказал – меня ограбили, напали! Вот залог – часы! Карточки могу тебе кредитные показать!
– Часы? – Водитель посмотрел, словно увидел часы впервые. – Сколько стоят?
– Тыщу баксов.
Тот засопел скучающе, вздохнул. Взял. Посмотрел. Сунул в карман:
– Ладно, садись.
Крысиное дерьмо
03.19.
Ленинский проспект, д. 35
«Жигули» въехали во двор.
– Минуту подожди. – Боренбойм вылез из машины. Подошел к двери подъезда № 4. Набрал на панели домофона номер квартиры.
Долго не отвечали. Потом сонный мужской голос спросил:
– Да?
– Савва, это Борис. У меня проблема.
– Боря?
– Да, да. Открой, пожалуйста.
Дверь запищала.
Боренбойм вошел в подъезд. Вбежал по ступеням к лифту. Поднялся на третий этаж. Подошел к большой двери с телекамерой. Дверь тяжело открылась. Савва выглянул из-за нее: 47 лет, большой, грузный, лысоватый, заспанное лицо, бордовый халат.
– Борьк, чего стряслось? – сонно щурился он. – Господи, где ты извалялся?
– Привет. – Боренбойм поправил очки. – Дай двести баксов с таксистом расплатиться.
– Ты в загуле? Тебя что, отпиздили?
– Нет, нет. Все серьезней. Давай, давай, давай!
Они вошли в просторную прихожую. Савва отодвинул панель полупрозрачного платяного шкафа. Полез в карман темно-синего пальто. Достал бумажник. Вытянул из него две стодолларовые бумажки. Боренбойм вырвал их у него из пальцев. Вышел. Спустился вниз. Но «Жигулей» не было.
– Тьфу, блядь! – Боренбойм сплюнул. Прошел за угол дома. Машины нигде не было.
– Временами дико сообразительный народ… – Он зло засмеялся. Скомкал купюры. Сунул в карман: – Fuck you!
Вернулся к Савве.
– Хватило? – Савва пошел на кухню. Зажег свет.
– Вполне.
– У тебя очки разбиты. Грязный весь… чего, напали, что ли? Давай, ты это… сними, надень… дать тебе чего-нибудь надеть? Или сразу в душ?
– Сразу выпить. – Боренбойм снял испачканный пиджак, кинул его в угол.
Сел за круглый стеклянный стол с широкой каймой из нержавеющей стали.
– Может, душ сначала? Тебя били?
– Выпить, выпить. – Боренбойм подпер подбородок кулаком, закрыл глаза. – И покурить чего покрепче.
– Водки? Вина? Пиво… тоже есть.
– Виски? Или нет?
– Обижаешь, начальник. – Савва размашисто ушел. Вернулся с бутылкой «Tullamore dew». И с пачкой папирос «Богатыри»: – Крепче нет ничего.
Боренбойм быстро закурил. Снял очки. Потер свои надбровья кончиками пальцев.
– Со льдом? – Савва достал стакан.
– Straight.
Савва налил ему:
– Чего стряслось?
Боренбойм молча выпил залпом.
– Одна-а-ако, отче! – пропел Савва на церковный манер. Налил еще.
Боренбойм отпил. Повертел стакан:
– На меня наехали.
– Так. – Савва сел напротив.
– Но я не знаю, кто они и чего они хотят.
– Ихь бин не понимает. – Савва пошлепал ладонями по своим пухлым щекам.
– Я тоже. Не понимает. Пока.
– И… когда?
– Вчера вечером. Я вернулся домой. И возле двери мне какой-то хер пушку приставил. Вот. А потом…
На кухню вошла заспанная Сабина: 38 лет, рослая, спортивная.
– Zum Gottes Willen! Боря? У вас мужское пьянство уже? – заговорила она с легким немецким акцентом.
– Бинош, у Бори проблема.
– Что-то случилось? – Она пригладила взлохмаченные волосы. Наклонилась. Обняла Боренбойма. – Ой, ты совсем грязный. Это что?
– Так… мужские дела. – Он поцеловал ее в щеку.
– Серьезное?
– Так. Не очень.
– Хочешь есть? У нас там салат остался.
– Не, не. Ничего не надо.
– Тогда я спать пойду, – зевнула она.
– Schlaf Wohl, Schützchen. – Савва обнял ее.
– Trink Wohl, Schweinchen. – Она шлепнула его по лысине. Ушла. Боренбойм взял папиросу. Прикурил от окурка. Продолжил:
– А потом вошел со мной в квартиру. Надел мне наручники. Вошла одна баба. Они вбили в стену два таких кронштейна. На них – по веревке. И распяли меня, блядь, на стене, как Христа. Вот. И потом… это вообще… очень странно… они открыли такой… типа кофра… а там лежал такой странный молоток какой-то… странной такой архаической формы… с такой рукояткой из палки простой… неровной такой. Но сам молоток этот был не стальной, не деревянный, а ледяной. Лед. Не знаю – искусственный, натуральный, но лед. И вот, представь, этим молотком эта баба стала меня молотить в грудь. И повторяла: скажи мне сердцем, скажи мне сердцем. Но! Самое странное! Они мне рот залепили! Такой клейкой лентой. Я мычу, она меня лупит. И лупит, блядь, изо всех сил. Так, что лед этот просто разлетался по комнате. Лупит и говорит эту хуйню. Дико больно, прямо пронизывало всего. Никогда такой боли не чувствовал. Даже когда мениск полетел. Вот. Они меня лупят, лупят. И я просто отрубился.