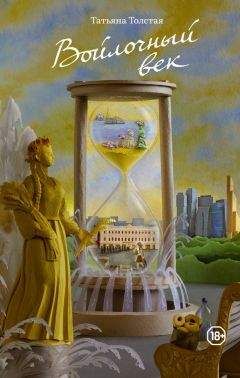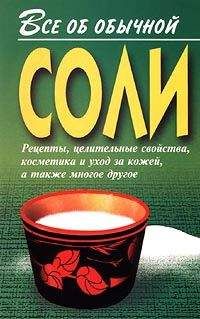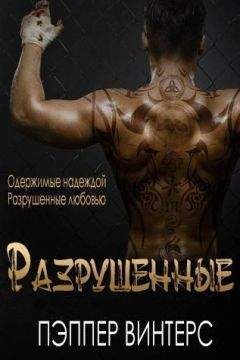Татьяна Толстая - Легкие миры (сборник)
И.Д.: Европейцев мы уже подминали, не очень интересно вышло. Или мы, наоборот, динозавры. Я что-то запутался в вашей притче.
Т.Т.: Да, я тоже. Я даже думаю, что я не могу это применить ни к нам, ни к европейцам.
И.Д.: Ну, просто красивая история.
Т.Т.: Просто к судьбе. То есть все сохранится, все сохранилось. Ничто не уничтожилось. Вот люди, вот динозавры, вернее куры. Просто то у одного сила, то у другого сила. Не надо никому исчезать. Я бы очень не хотела, чтобы исчезла Европа. Почему мне не нравится исламизация Европы? Потому что их почти уже не осталось, европейцев. Более того, их даже меньше, чем мы думали, когда мы туда явились в девяностых. Мы ж думали, что там все по-прежнему. Нет. Их так мало, они себя не берегут, и вот уже там хозяйничают люди, которые даже не понимают, с чем имеют дело. Мне жалко, жалко все вымирающее, я считаю, что европейцы вымирают.
И.Д.: Я почему-то в этом не уверен. Думаю, что мы недооцениваем их ассимиляционный потенциал и делаем очень серьезные выводы на коротких временных отрезках. Может быть, я не прав. Но это другой разговор, конечно. И их, и свой потенциал, кстати сказать, у нас ведь тоже что-то меняется, как нам кажется, и мы переживаем по этому поводу.
Т.Т.: Ну да, мы ж не можем видеть прямо, что происходит. Русский человек – за счет того что у него все слово и туман, и струна звенит в тумане, – он же ничего не изобрел. И блоху не подковали. Подковали, но не прыгает. Ничего не изобрел.
И.Д.: Я не знаю, читал ли Лесков, но это английская история XVII века. Это лондонские мастера подковали прыгающую механическую блоху, это действительно было. Я не знаю, придумал ли Лесков сам свою тульскую легенду или ему что-то попадалось, но это внутрианглийское дело, причем на самом деле случившееся.
Т.Т.: Наверняка читал.
И.Д.: Это было у Акройда в толстой книжке про Лондон, а Акройд наверняка читал Лескова и, понимая, что русские его книжку прочтут, хотел нас уязвить. Привет передать.
Т.Т.: Но мы ничего этого не сделали, ничего этого не сделали. Мы можем повторить, добежать, сделать в одном экземпляре… так было всегда. В материальном мире. А в словесном – можем. А то, что надо делать руками или изобрести головой, – нет. Ничего, ни пирамид, ни подковывания блохи, ничего. Патриоты так не любят это признавать. Глупые вы, патриоты.
И.Д.: Я просто думаю уже, что если этот кусок беседы будет напечатан, то будет много комментариев.
Т.Т.: Это ведь хорошо.
И.Д.: Вам подробно расскажут, что русские люди изобрели. Большими списками.
Т.Т.: Да-да-да. Поп Ерошка открыл электричество, когда наблюдал, как молния поразила стог сена. Знаем. Такая была книжка в 48 году, там поп Ерошка был.
Ну, это просто разные виды больных вспыхивают по-разному на разные ключевые слова. Мне кто-то что-то указывает на мои иностранные привычки и отсутствие патриотизма… А мы – Толстые – с XIII века здесь сидим! Так и сидим. Всех пересидели. Остальные неизвестно откуда взялись, а мы сидим, и ничего.
И.Д.: Да, кстати, это же нормально: зацикленность на слове и важность вербально создаваемого мира и порождаемых в нем преобразований, она отодвигает на второй план подковывание блох и строительство пирамид. Слишком невозвышенное занятие для нас.
Т.Т.: А вот в том-то и дело, что это вопрос телеологии. А зачем? Чтобы что? В чем смысл существования общества, кроме некоторых безумных предложений уйти всем назад в леса и там тачать сапоги. Что время от времени случается – весь этот руссоизм, Руссо, Лев Толстой, Солженицын, который потратил время на то, чтобы свои филиппики произнести про то, что надо чинить утюги и штопать носки. Я представляю: сидит Солженицын такой, грибок деревянный у него, у меня в детстве такой был, и чулок штопает. Ну я понимаю, да, это очень уютно. В Исландии. Гейзер шумит. Но человек, зараза такая, что-то его все время тянет вперед на пути неизвестно какого прогресса. Изобрел колесо, и все понеслось. Вектор такой. А чего? А куда?
А иначе пьянство бессмысленное, Чевенгур опять-таки, бессмысленное уничтожение всего вокруг.
И.Д.: С Чевенгуром сложнее. Там с постановкой цели вроде бы не было проблем. Наоборот, они были слишком ясны.
Т.Т.: Но вообще вот это вот желание отрицать материалистический мир – это очень интересная вещь. Что это? Луддиты тоже. Но у них хоть цель была, машины мешали им зарабатывать. А у нас не поэтому, а просто. Ведь русский человек не может видеть аккуратный предмет. Он аккуратного не выносит. Если скамейка стоит аккуратная – от вырезания каких-то слов (но это общечеловеческое, положим; все Помпеи в надписях) и до того, чтобы пнуть, перевернуть, обгадить. Это тоже очень символическая вещь. Почему европеец даже под тяжестью культуры – ведь, казалось бы, сколько веков культуры, две с половиной тысячи лет минимум! – почему он не испытывает желания хотя бы символически накакать на что-нибудь хорошее? Это же ясный символический жест. Почему русский человек легко отдается этому порыву – не нравится ему аккуратное, законченное, завершенное, материальное? А европеец терпит. У меня нет на этот вопрос ответа.
Слово, слово. Хорошо, слово. Неужели, если ты словоцентричен, тебе так невыносим материальный предмет, не переводимый в слово? Хорошо сделанный. Хорошо, приятно сделанный. А ведь «хорошо сделанный» – это вещь объективная, потому что уже были сделаны бесконечные расчеты, показавшие, что то, что человеку кажется гармоничным, красивым, аккуратным и так далее, весь этот ряд синонимов, все обсчеты этого, будь то музыка или предметы какие-то, – они сводятся к формулам простым. С кругами все понятно. С овалами тоже. Почему неприятно нечто между кругом и овалом? – потому что там нечистая формула. Испытывая эстетическое удовольствие, ты видишь математику, ты видишь красивую формулу, ты видишь четкость. И это и значит – хорошо, ладно сделано.
Но русский человек это видеть не может. А европеец может.
И.Д.: Мне кажется, что все еще путаней, в том плане что нет у русского человека неприязни и отторжения мира, я имею в виду материальный мир, как задачи. Если мы не берем всяких аскетов и так далее. Русскому человеку, как и любому другому человеку, нравится жить удобно. Что не отменяет при этом парадоксальным образом всего, что вы вот сейчас сказали.
Т.Т.: В желании набрать себе побольше и жить комфортно мы ничем не отличаемся. В этом смысле мы одинаковы. Да, комфорт – хорошо, лучше лежать, чем сидеть, красивые вещи – хорошо, брать себе, другому не давать. Это понятно. Но дальше, например, – а к чему все? А зачем это все? Следующая стадия – желание разрушить, и этот вопрос как-то предшествует. К чему все это нужно? Вот пнуть. Вот пойти потоптать. Это совсем не только русский человек. Какой-нибудь плебс английский, охлос – о, это страшное дело, если вы видели фотографии, как они гуляют.
И.Д.: Конечно.
Т.Т.: Но вот и мы тоже. А там кельтская эта вот штука очень близка к нам. Выпить, буянить, все заблевать. Мы не одиноки в этой Вселенной. Но все же нам это родное, привычное, мы не ждем другого. Мы знаем, что у нас обязательно плиточка будет недоложена, обязательно там будут дыры, сбоку будет свален мусор, будет лежать такое бетонное кольцо загадочное, а внутри будет накакано. Мы же знаем это. Так было всегда. Мы с этим выросли.
И.Д.: Вы сейчас очень живо описали ремонт в моем дворе, который сделали только что. Вплоть до кольца.
Т.Т.: Вижу сквозь километры.
И.Д.: Но если я правильно понял вашу мысль, эта тяга к разрушению – она тоже от вербального. От поиска смысла и ненахождения его.
Т.Т.: Это как-то связано. Я не могу сказать как. Но это в одном пакете.
И.Д.: Ты ищешь смысл, ты его не находишь, и это делает весь мир ненужным.
Т.Т.: Вот вы опять цепочку строите. Может быть, она есть, а может, и нет. Вот вы сели в поезд «Сапсан». Вам выдается пакетик полиэтиленовый. Или там целлофановый. В этом пакетике зубная щетка, салфетка для протирания рук и рожок для обуви, например. А может быть, еще сахар, соль и твердая копченая колбаса. Вот они связаны как-то причинно-следственно? Я не знаю. Но я знаю, что там.
И вот эта вот тоска, когда тебе это дадут, – она узнаваемая тоска. Железнодорожная. Вот сейчас сидели с Шурой Тимофеевским, говорили о том, что, когда подыскиваешь какую-то схожесть или параллель к той тоске, которая тебя сейчас одолевает, разом вспоминаешь какое-нибудь произведение классической русской литературы. Все было так же. Мы же не знаем, как там было. Только думаем, что знаем. А как только взвоешь – так тебе кто-то и руку подал оттуда. Да, друг, и мы воем. Чехов. Блок. Да и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне. Вот что я хочу сказать, наверное.