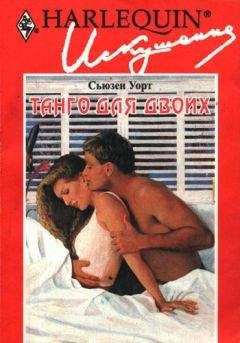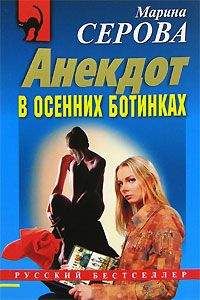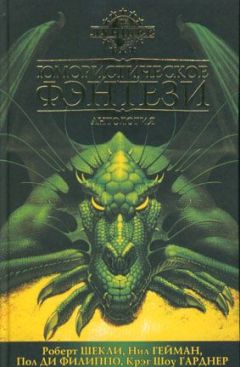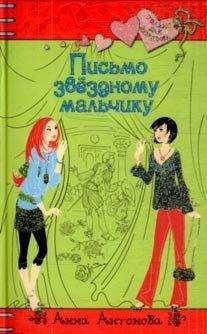Анна Мазурова - Транскрипт
– Долго еще? – спросил Фима, оттягивая начало разговора с Муравлеевым. – Я хочу есть.
«Ничего не боится!» – отметил Муравлеев.
– Съешь пока колбасы, – миролюбиво предложила Ира, и Муравлеев слегка удивился, что Фиме так просто все сходит с рук, – даже нахмурился: не оттого ли, что в доме покойник?
– Я не знаю, если я хочу колбасу, – раздумчиво заметил Фима.
Но тут-то она должна что-то предпринять?! Ничего! Только почувствовав его упорный взгляд, она подняла голову, и на секунду лицо ее приняло привычное ищущее, тревожно-вопрошающее выражение. Хрен его знает, какое выражение! Пессимист сказал бы, что выражение человека, который сам знает ответ, а все надеется услышать от других опровержение. Оптимист, напротив, заявит, что это взгляд человека, на пустом месте создающего проблемы – вот же, гляди, все нормально, все как всегда, и нет никаких оснований, но… скребется что-то у нее на дне глаз, тоскливое, опережающее, приглашающее беду. Но то ли свет так падал и никакого такого выражения не было вовсе, то ли оно мелькнуло и прошло – только в то же мгновенье этот взгляд сменился странной улыбкой. Так улыбаются небольшие собаки, если смотреть на их улыбку сверху, в перевернутом виде, когда сами они лежат на спине и подставляют для чесания брюхо. «Может, она беременная?» – озадачился Муравлеев.Открыв холодильник и погрузившись в него по пояс, Фима перебирал какие-то сверточки, банки, негромко переговариваясь сам с собой, затем проявился с пакетом, который тут же брезгливо отправил в мусор, прежде чем опуститься на стул против Муравлеева.
– Как у тебя вообще-то с работой?
– В этом отношении я совершенно спокоен, – пожав плечами, отвечал Муравлеев. – Гелиотропов фактически отдал клиента, там еще много будет. И – у меня такое чувство – сам он будет работать все меньше, а он меня уважает, думаю мне будет отдавать… В суды меня зовут… Плюша обещал, насчет рабочей группы, где-то через месяц. Потом мне один мудак на букву «ч» много денег должен за одну брошюру…
И это уж не говоря о Филькенштейне и обещанных им конференциях (на одной он, помнится, был, два первых дня понравились, хоть потом все стало как-то… стухать).
– И потом, – грезил Муравлеев, сам удивляясь масштабу своих перспектив. – Забыл что ли? У меня вторая квалификация. После Львицы могу еще за кем-нибудь следить – за адвокатами, страховыми компаниями, судьями… За тобой могу следить. Только лучше, если выдадут личное оружие.
– Ну дай Бог, дай Бог… – рассеянно пробормотал Фима, потрепав по руке Иру, которая ставила перед ним рагу. «Что-то он здорово стал в последнее время сдавать», – несмотря на выходку с колбасой, подумал Муравлеев и привычно встретился взглядом с Ирой, чтобы проверить впечатление, обсудить глазами. Но из окна знакомого дома смотрел незнакомец, который никак его не поприветствовал.
– Что, несоленое? – по-своему проинтерпретировала она его взгляд и придвинула солонку.
Муравлеев помолчал, не зная, как проявить ответный интерес к их жизни.
– А как там все? Как зять старика Хоттабыча? Как Кирилл? Жив ли папа его, инженер? – и, столкнувшись с непонимающим взглядом Фимы, добавил: – Еще тот, у которого шведское гражданство, Руслан? – (Он помнил все, что когда-либо говорил ему Фима: «все время жует жвачку, чтоб не ругаться матом» или «его хлебом не корми, дай постесняться». Это я так сказал? – удивился бы Фима.) Фима поежился: ну как объяснить Муравлееву, что лучше бы он и не спрашивал, лучше б пил свой коньяк и сидел в уголке, а то эти болезненные приступы общительности… Вот уже доктор Львив (теща, что ли, говорила?) собирается подать на него то ли за клевету, то ли за разглашение (что, в сущности, одно и то же). Но, зная, что не объяснишь, Фима лишь терпеливо ответил:
– Руслана не знаю, а шведского гражданства не бывает. Для этого там надо или родиться, или прожить девяносто девять лет.
– Я пойду постелю, – сказала Ира и ушла.
– Что это с Ирой? – осторожно спросил Муравлеев.
– Ты заметил? – благодарно подхватил Фима. – Она у нас теперь на прозаке сидит!
Он с торжеством посмотрел на Муравлеева, вспомнив, видно, ту сцену в прихожей – так и хотелось назвать ее «немая сцена», хотя молчали в ней только Муравлеев с Фимой.
– И действительно! Правильно говорил Филькенштейн. В современном мире нет никакой необходимости страдать от депрессии…
И, торопясь договорить, чтобы Муравлеев как-нибудь не так не понял:
– … потому что столько же создано действенных и безопасных средств!
Тут Фима, совершенно не умеющий скрывать своих мыслей, вдруг запнулся и замолчал. Муравлеев даже растрогался, насколько Фима ценит его мнение. И насколько он беззащитен и легковерен, этот Фима, бог знает в какой передаче цитируя человека, который ни разу с ним не разговаривал. На самом деле, Фима просто вспомнил, что сейчас не самый подходящий момент пинать Муравлеева Филькенштейном. И чем только, спрашивается, умудрился он восстановить против себя такого незлобивого, интеллигентного старика? За тем ледяным спокойствием, с которым Филькенштейн отчеканил: «Для меня он перестал существовать», все-таки было заметно, что другой Филькенштейн, там, внутри, буквально орал, багровея и брызжа слюной. Очень странно. Вроде так слаженно ворковали тогда у продуктового магазина на голубином своем языке…Муравлеева положили в роминой комнате. Он хорошо помнил, как эта комната создавалась.
– Мы организовали для Ромы рабочее место, – однажды приветствовала его Ира.
До ужина он поперся смотреть рабочее место, слабо недоумевая, что они ему устроили на этот раз. Токарный станок, как у князя Болконского? Кьюбикл с лампой дневного света? Оказалось, дивный ореховый стол с ящиками, ручками, настольной лампой и ювелирно отточенными карандашами в стаканчике. Поверх столешницы стекло, чтоб не сразу загадил. Пустынно, торжественно, только замызганная коробка мокрых еще акварельных красок и незаконченный рисунок – человек-паук: лицо в сеточку, пальцы растопырены, согнутые ноги расставлены, действительно, по-паучьи. Над столом, в черной траурной раме, висели две каллиграфически выписанные чернилами строфы:Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века,
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
Ира стояла у стола, вертя в руках коробочку с красками, и чего-то ждала. Наверное, одобренья, может быть, даже восторга. Откровенностей, признаний, новой упоительной беседы о прелестях и препонах речевого воспитания. И повешены-то эти строфы были не Роме, а ему. Помнится, он разозлился. Он всего лишь ходил обедать и ужинать и приобщаться к роду человеческому с его дырявой памятью, где, если и забыл, как звали Ельмслева – простят. Из этой памяти, как из дырявого кармана, терять время, не скупясь, не считая, как делают все, утонуть в мутном омуте кресла, где ноги выше задницы, завязнуть, как в меду, в этом кресле, в одуряющей духоте натопленной на убой квартиры, погрузиться в картофельное пюре (эй, Муравлеев, где еще, когда поешь ты картофельного пюре?), приклеившись к месту не столько увлекательностью беседы, сколько мыслью о густоте окружающей ночи, о длинной дороге домой в клубах беспросветного дыма, снега, радиобреда – и в полный мрак и ледяной холод Матильдиной халупы. Да, и греться ходил тоже! Представьте, и греться! Тут и не так запоешь о неустаревающих ценностях. Он почувствовал, что заливается краской – не девическим акварельным румянцем, нежным, как ромины пятки, а блядской плакатной гуашью стыда. Ему было б не так стыдно ириной нескромности, если бы она прямо, без обиняков, написала и повесила:
Ты помнишь чудное мгновенье?
Перед тобой явилась я.
С ножками на полях. Он встал над знакомым рабочим местом. Здесь мало что изменилось: ящики, ручки, настольная лампа, стекло, отточенные карандаши, ничем суетным, хамским не загроможденная рабочая плоскость, только там, где когда-то лежал человек-паук, стояла ромина фотография – не парадная, а настоящая, полевая. Рома стоял, прислонясь к бетонной стене, в походном жилете с поднятым, наглухо застегнутым воротником, и небольшой видневшийся кончик приклада (фотография была обрезана по грудь) можно было принять за лямку рюкзака.
В чужой комнате долго что-то шевелилось и белело, и он не мог уснуть, хотя безумно устал от навязчивых, приходящих, уходящих и снова возвращающихся хозяйственных мыслей. Выключил ли он, уезжая, чайник? Не будет ли проблем с подсоединением принтера? Позволит ли Матильда оставить на автоответчике сообщение с новым телефоном, а то как же разыщут его клиенты со своими правами и свидетельствами о рождении? И, главное – с каким новым телефоном? Хотя, в сущности, перемена мест – это только к лучшему. Вот и повод обзвонить и напомнить всем о себе. Шутка ли, никто не звонил уже… два месяца! Или три? Но прочь эсхатологические настроения! Это, друзья мои, такая же ерунда, как мания пишущего, когда роман внезапно подходит к концу: кажется, что больше никогда ничего не напишешь, выпотрошен, опустошен… Но стоило ему понять в темноте, что лысый шар со звериным лицом, там, на верхней полке книжного шкафа – это только глобус, он понял также, что не все эти несущественные повседневные мелочи беспокоят его, а ужасное ожидание. Как знать, на что способна женщина, напичканная прозаком? Ему никогда не приходилось переводить про прозак, ни вкладышей, ни слайдовых презентаций, ни круглых столов. Теперь он мучительно пытался определить, что это, случайная лакуна или значимое отсутствие? Вся комнатная тьма устремилась к порогу и легла там черным пятном, как половик, в том самом месте, где должна была, скрипнув, приоткрыться дверь и – вряд ли голая – в халате или ночной рубашке, как привидение… Хотя, может быть, и нет. Может, напротив, действие прозака таково, что Ира спит сейчас, уткнувшись в фимину седую подмышку, успокоенная, блаженная, с расправленным лбом, за которым быстро вращается расписной зонтик. Может, у нее вообще все наладилось. Почему он, собственно, вообразил, что прозак должен высвободить в Ире неконтролируемое животное начало? И, главное, на завтра есть рубашка… рубашка… Хорошо, что он оказался у них не полностью голый и беззащитный, а все-таки завтра эта работа – хлебнет с утра кофе и уедет. (Проверить в кармане книжку. Нет, все в порядке, на месте: «Пособие по внеклассному чтению. К.Б.Левин».) Если б ему пришлось целый день сидеть здесь на телефоне, то к вечеру, предвидя их возвращение, жалость и понимание, он бы, наверно, сошел с ума…