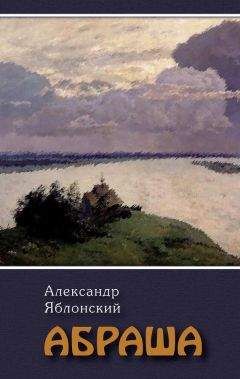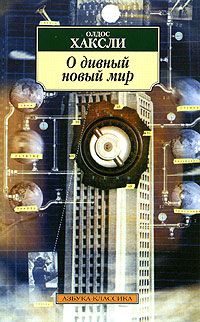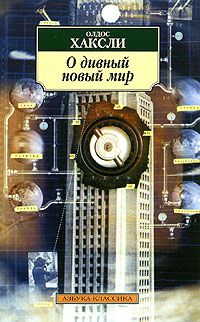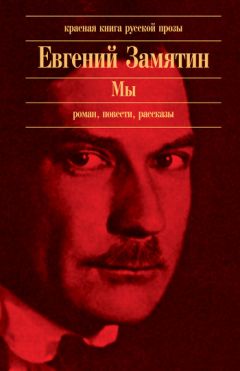Александр Яблонский - Президент Московии: Невероятная история в четырех частях
Перед голосованием он нервничал. Его первые, ранние инициативы прошли относительно гладко, кроме «Акта об амнистии» – Вече на дыбы встало, что было предсказуемо: выпускать тысячи и тысячи потенциальных мстителей не хотел никто из вечевиков, ибо каждый имел не один десяток посаженных и забитых конкурентов, соперников, друзей, соседей, случайных обидчиков. Чернышев не очень расстроился: не вышло с амнистией, осуществим помилование. Тут уж никакой парламент помешать не сможет. С остальным всё проскочило. Хорьков, конечно, взбрыкнул, когда одновременно с Указами о его назначении главой Администрации Президента и «О ликвидации должности замглавы Администрации» познакомился с подписанными Президентом «Положением об Администрации Президента ДСРМ», в котором все вернулось на круги своя: Администрация стала «аппаратом, обеспечивающим деятельность Президента», утратив титул «государственного органа», то есть вернулась к своим первоначально задуманным в середине 90-х функциям. «Господин Президент, Олег Николаевич, ну так же нельзя… Ну так же не делается… Администрацию вы низвели до уровня какого-то секретариата. Федеральная исполнительная власть под нашу – вашу дудку плясала ранее и плясала бы впредь. А теперь? Как вы будете справляться…» – «Думаю, исполнительная власть не скоморох-плясун, она и без дирижера обойдется. А я справлюсь! Не справлюсь, – организуете импичмент. Вы это умеете. Вопрос решен и закрыт». Хорьков ещё долго доказывал, но Чернышев его не слушал и не слышал, да и Всеволод Асламбекович излагал свои соображения по инерции, понимая бессмысленность спора; в голове у него начинали созревать идеи, как обойти и новое положение, и самого Президента, выползающего из-под его контроля, а точнее, так под него и не попавшего. Чернышев читал мысли своего заклятого друга-помощника: «Ничего, дружок, дерзай, интригуй… Твое время ушло».
Закон о ликвидации ограничений для регистраций партий и даже свод законов «О средствах массовой информации», «О государственной тайне», «О коммерческой тайне», ряд других прошли неожиданно легко. Вслед за ними вышли подзаконные акты – указы и распоряжения Президента и правительства, ряд нормативных актов, результатом чего стало немедленное освобождения тысяч ученых, журналистов, писателей, инженеров, статистиков, врачей, офицеров, домохозяек и артистов. Пришлось, конечно, пойти на некоторые уступки скорее декоративного плана, но главное было сделано. Озадачило другое: после отмены ограничений на регистрацию партии в очередь не кинулись. – Времени мало было, не успели и не ожидали, подумал Чернышев, но Сухоруков – глава только что образованной Службы информации Президента, комиссар второго ранга ГП, молодой, беспринципный, но ретивый служака и профессионал высшего класса – Чернышев сам его отобрал из десятка претендентов – этот Сухоруков с абсолютной уверенностью доложил: очереди и не будет. Все свыклись со своим легально-оппозиционным или полулегально-оппозиционным, или нелегальным, или маргинальным положением, и никто ничего менять не будет. В своей норке тепло, уютно и, главное, сытно: привыкли, что от барского стола что-то перепадает. «Посмотрим, посмотрим», – реагировал Чернышев, но уверенности не было.
То, что эти законопроекты прошли относительно безболезненно, было понятно. Ребята из бывших, во главе с Лидером, прекрасно понимали, что все эти меры, расшатывающие сложившийся и, как казалось, зацементированный властный столб, перпендикулярный линии горизонта, все эти новации к ним не относятся – их можно моментально похерить, то есть перечеркнуть и забыть, как только американский выскочка сгинет в небытие: и партии, даже если захотят вылезти на свет Божий, загнать в стойло, и СМИ прижать так, что мало не покажется, и всех вздохнувших полной грудью – ПОВТОРНО – «Кругом, шагом марш по камерам». А пока пусть порадуется, дурачок, пусть копает себе яму: все его новации подрывали ЕГО власть, не ИХ. Чернышев все это понимал, но перспектива свалиться в им же якобы выкопанную яму его не волновала. Конец, возможно, страшный был предусмотрен, однако он надеялся, что процесс может принять необратимый характер – нельзя же всегда жить в рабском состоянии и мировосприятии. Что же касается снятия претензий к приватизационным сделкам с соответствующей компенсацией и проведения тендеров на приобретение электронных СМИ, ТВ в первую очередь, то здесь глухое, но мощное сопротивление было ощутимо. Естественно: снова пересажать кого угодно – не проблема, отменить все выборы – как два пальца, отпустить же на волю олигархов-миллионщиков – тут же разбегутся и не собрать будет вовек, на крюк заново не подвесить. Всего можно будет от них ожидать, и уж точно будет не выдоить. А приватизировать СМИ и ТВ – вообще геморрой, с двумя когда-то еле справились, а с тремя – четырьмя десятками!.. Такого наворотят – мама не горюй. Премьер во время последней деловой встречи не скрывал – пожалуй, впервые – своего раздражения, категорического несогласия и угрозы, что ЭТО не пройдет. Да и спикер, то есть Говорун, специально связался и после извинений и реверансов выразил сомнение в прохождении этих инициатив Президента в Вече. Сухоруков сформулировал кратко: fifty-fifty.
Надо было выигрывать, и Чернышев прибыл в день голосования в Великое Вече. Настроение у него было веселое, давно он не чувствовал себя так легко, свободно и молодо. Помимо идиотского боевого задора на него благоприятно подействовало утреннее сообщение от Сучина: Сиделец и его подельники доставлены в Москву, размещены в Президентской клинике, проходят обследование, усиленно питаются и через несколько дней будут готовы к встрече с Президентом. Их безопасность гарантирована. Косопузов доложил, что Сучин с заключенными личных контактов не имел. «Вот и чудненько!»
На трибуну он вышел внешне подтянутый, злой и голодный. Говорил медленно, с паузами, чугунно роняя слова и всматриваясь в лица депутатов, пытаясь глазами достать и придавить каждого. Премьер сидел, разглядывая свои руки, желвачки не играли, он не бычился, не стрелял гневными глазками, как обычно, и было такое впечатление, что из него выпустили воздух. «Да он же старик!» – пронеслось в голове Чернышева, и он тут же забыл о нем. Спикер – совсем белый стал – испуганно переводил взгляд с Президента на Премьера, с Премьера на Президента, все больше застревая на Президенте, понимая, что его многолетний и непоколебимый босс на глазах теряет свой вес, позиции, влияние. Это, видимо, чувствовали и депутаты, под свинцовым взглядом Нового Хозяина Живота опуская свои лица, не смея шелохнуться или перекинуться репликами: презентация новых указов прошла в небывалой для Вече гробовой тишине. «Господа депутаты, предлагаю голосовать», – закончил краткую речь Чернышев, бесцеремонно оттеснив спикера с его прерогативами, и пресекая все поползновения на обсуждение указов. «Нажмем на кнопочки, если нет возражений», – бесцеремонно и угрожающе завершил Президент и замер на трибуне, не спуская с зала побелевших от напряжения глаз.
Как ни странно, результаты его не обрадовали. Он в них не сомневался. Просто перед голосованием им владел восторг битвы и предвкушения победы, когда же победа была в кармане и досталась неожиданно (хотя и ожидаемо) легко, восторг испарился, осталась пустота и какое-то предчувствие удара в спину из-за угла. Последние победы так просто ему обойтись не могли.
* * *Играли в прятки. Сначала в квартире. Потом играли на улице, но на улице он уже не играл. Только в квартире. Чья это была квартира, было непонятно, возможно, отца его одноклассника – известного киноартиста: потому что квартира была огромная, в обычной жизни он таких огромных никогда не видел. Первой водила девочка. Она испуганно кричала: «Кто за мной стоит, тот в огне горит! Кто не спрятался, я не виновата!». Все мальчишки рассыпались по всевозможным закоулкам, чуланам, стенным шкафам, за диваны, кресла, под кровати… Только он растерянно стоял и не знал, куда прятаться. Можно было за шторы, но тогда были бы видны его тоненькие ножки, его беленькие носочки и его новенькие черные ботиночки со шнурочками, которые были ему велики, но он их надевал по особо парадным случаям, а то, что его позвали играть с большими – десятилетними ребятами и даже двенадцатилетней девочкой, было именно таким необычным событием в его жизни, и мама разрешила ему их надеть. «Кто… я не виновата» – надо было решать, и он прижался к стене за углом огромного бегемотного комода. Ему повезло. Кто-то от волнения громко пукнул, и девочка растерянно вскрикнула: «Палочка за Веню!». Потом водил Веня, а он спрятался за шторы, усевшись на широкий подоконник и поджав свои ножки. Потом водил неизвестный мальчик в очках, и этот мальчик, имя которого было неизвестно, сразу же нашел его, потому что видел, как он прятался за шторы в предыдущий кон. Он отсчитал положенные тринадцать счетов, громко и радостно прокричал насчет огня и «кто не спрятался» и тут же увидел девочку, которая суматошно металась от старинного дивана, стоявшего перпендикулярно к стене, к платяному шкафу, у которого никогда не закрывалась скрипучая правая дверка. Он уже было открыл рот, чтобы закричать: «Палочка за девочку!», – но ему вдруг стало жалко эту растрепанную курицу, и он ее не заметил. Остальных он не нашел, а вернее, многих нашел, но они бегали быстрее его, так как в новых ботиночках со шнурочками ему было неудобно бегать. «Палочка за себя!» – прокричали все мальчики и даже девочка, которая всё-таки спряталась в шкафу с не закрывающейся дверкой. Пришлось водить ещё раз. Пока он водил, придумал, куда он спрячется в следующий раз. Он опять никого не нашел, вернее, те, кого он нашел, бегали быстрее его, но Костик – самый длинный и неуклюжий в их веселой компании – зацепился ногой за шнур торшера, упал, но не заплакал, а встал, пожал узенькими плечами и пошел водить. А он спрятался в большой металлический шкаф с толстенной железной дверкой, на которой были какие-то циферки и блестящий небольшой, как руль игрушечной машины, круг. Когда он с трудом закрыл за собой эту толстенную дверь, что-то щелкнуло, но он не обратил на это внимания. Стало совсем тихо, и он не расслышал, как Костик прокричал «Кто не спрятался…», он не слышал топота и криков «Палочка за меня!», громкого тиканья больших напольных часов, он ничего не слышал, было так тихо, что захотелось спать. Может, он на минутку и заснул, но потом испугался, что все могут о нем забыть и пойти играть на улицу без него. Он попытался открыть толстенную дверку, но у него ничего не получилось. Он навалился всем своим телом, но дверь даже не шелохнулась. Тогда он захотел закричать, но ему стало стыдно звать на помощь, и он попробовал стучать кулачком в дверь. Он стучал сначала тихонечко, потом изо всех сил, но его удары никто не слышал, так как он сам их не слышал. Ему стало страшно, он закричал, раздался сдавленный писк, в другой раз бы он расхохотался, услышав такой писк, но сейчас он смеяться не мог, так как не мог вздохнуть – не было воздуха. Он раскрыл – разорвал рот в беззвучном крике и в попытке вздохнуть, бросился к двери, ещё раз попробовал вздохнуть и вдруг подумал, что он может умереть, и тут же, молнией: этого не может быть, ведь он такой ещё маленький, и никто больше не увидит его в новых ботиночках со шнурочками, и как же мама без него, она без него не сможет жить, значит, и она умрет, но этого вообще ни может быть, – ногам стало тепло и мокро, он перестал бояться и вдруг увидел маленькую елку, украшенную дивными игрушками, что-то лопнуло и разорвалось, он сполз на пол с заглоченным языком и удивленными глазами.