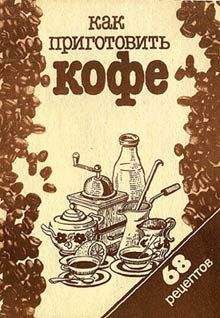Владимир Шапко - Парус (сборник)
С карандашом в руках стали прослеживать по ней весь путь, какой предстояло проехать Митьке. Высчитали примерно и время на всё путешествие. Заодно Боря подробно рассказал о правилах движения на железной дороге, о семафорах, сигнализации, не забыл про правила поведения железнодорожных пассажиров в вокзалах и поездах и ещё о многом другом, на что Митя должен обратить внимание при путешествии. И, самое главное, настоятельно рекомендовал ему записывать обо всех дорожных впечатлениях и, по возможности, полней, чтобы по возвращении подробно обсудить это увлекательнейшее – Боря не будет в этом сомневаться – путешествие по железной дороге. Митька с радостью согласился всё записывать…
Катя протянула руку к потной голове сына и, гладя её, горько заплакала: господи, бедный мальчик, ему-то за что?.. Почему тогда не поехали сразу? Как теперь? Деньги на исходе. Опять пересадки. До Алма-Аты – ещё как-нибудь, а там?.. Господи, Ваня, что ж ты наделал? Почему не веришь мне, почему? Как же мы бросим тебя, Ваня? Неужели всё забыл? Как ты мог пойти на такое? Что с нами-то было б, Ваня? С отцом твоим, с сыном, со мной?.. Ваня!..
И снова под вагоном на нескончаемой, безжалостной наковальне всё в слезах плющило и плющило: как ты мог! как ты мог!..
18Через трое суток на узловой станции Арысь перед посадкой в товарные вагоны людей прогоняли через санпропускник. От станции на отшибе к плоскому зданию бани вилась нескончаемая очередь. Высокая железная труба, взятая в скрипучие проволочные растяжки, полоскала чёрным дымом прямо в полупустыню. Там вдали у горизонта в белом мареве знойными сухарями проплывали верблюды. И всё вокруг: и сама баня, и очередь к ней, и станция справа, и дальше глинобитные дувалы и дома, точно густо павшие в молитве мусульмане с проострённой в небо мечетью-мольбой – всё зыбко пошевеливалось, словно приглушённо бормотало в белёсом зное полупустыни. Ни деревца вокруг, ни тенёчка…
Пока стояли в очереди, а потом мылись, солнце перекатилось на самый край земли и там остывало. У его подножья с молитвой падал мусульманин, обугленный, как муравей. На мечети бился горлинкой голосок муллы.
Уже в сумерках товарняк «пятьсот-весёлый» стучал и стучал за убегающими лучами солнца, а в вагонах вповалку спали помытые, намаявшиеся пассажиры.
Наутро навстречу поезду, как зелёный прохладный кораблик, выплыл из голой степи городок Джамбул. Но не успел состав вползти в станцию, ещё лязгали буфера, шипели тормозные шланги, ещё плыл, никак не мог остановиться деревянный обшарпанный вокзал, а вровень с вагонами уже бодро побежали какие-то люди в полувоенных картузах, но с винтовками настоящими. «Выгружайсь! Выгружайсь! Вагоны освобождай! Приехали!»
Вот тебе и городок зелёный Джамбул! Думали, остановятся на полчасика – паровозик попьёт водицы, отдышится – да и дальше постучат, и к вечеру, глядишь, и Алма-Ата, а тут – на тебе! Новая пересадка. Скоро этак и в голой степи пересадки начнут устраивать…
А эшелон минут через пять – точно вымолоченный на пути людьми и вещами, полностью вышелушенный, пустой – погнал назад, и полувоенные, вися на подножках, целеустремлённо и строго смотрели вперёд. Люди побрели через пути к вокзалу, к приподнятому деревянному перрону, закидывали наверх детей, вещи, сами лезли. Перрон на глазах превращался в вялый, измученный, бесколёсный табор.
На знойном и пустом, как степь, базаре, неподалёку от станции, Катя и Митька долго спорили под вывеской «Ремонт часов». В конце концов Катя решительно дёрнула дверь хибарки – и Митьке ничего не оставалось, как проследовать за ней.
Маленькие Катины часики толстый недовольный человек долго разглядывал увеличенным жутким глазом. Точно пойманную блоху. Ковырял внутренности отвёрточкой, пинцетиком – проверял на всяческий ход. Наконец скинул «глаз» в руку, не глядя на Катю, назвал цену. «Да вы что?!» – возмутилась Катя. «Ладно, ладно! – сразу остановил её злым, безоговорочным взмахом пухлой руки. – Ладно… – И будто голодной собаке кинул: – Ещё три сотни…»
Необычного, странного вида пирожки жарились в бараньем жиру на прокопчённом противне. Походили они на длинные африканские пиро́ги, севшие на мели. И мели эти вдруг ожили, закипели. Прокопчённый узбек в тюбетейке лопаточкой снимал, скидывал готовые, золотистые в большую чашку, тут же ловко защипывал в тесто новой требухи, новые кидал «пироги» на мели. Его прокопчённый сынишка ползал на коленях, совал под противень в ржавую прогоревшую печку кизяк. Отворачиваясь от жара, железным прутом вышуровывал в густой долгий дым короткие горстки искорок.
Не слушая предупреждений матери, Митька выхватил из чашки, начал перекидывать с руки на руку длинную огненную эту пирогу, не удержался, откусил ароматной золотистости, катал её во рту, обдувал, капая слюнями на землю, но снова не удержался – раньше времени проглотил. Прослушал – и сломался от боли…
Потом прокопчённый узбек держал на вытянутой руке прокопчённый чайник и со всепонимающей грустью смотрел, как веснушчатый русский мальчишка, точно жадный птенец, вытягиваясь и закатывая глаза, пил, заглатывал из носика чайника тепловатую воду, ухватив себя за тощие ляжки…
А полдень набивал и набивал степной жары в городок. За вокзалом было полно деревьев, полно отдохновенной тени, но люди маялись на голом знойном перроне – уходить было нельзя: поезд могли дать на следующий день, а могли вот, в следующую минуту.
Чуть касаясь матери спиной, Митька сидел на чемодане, а баульчик держал на коленях. Осоловелый но упорный Митькин карандаш торчал над раскрытой тетрадкой. Ждал словно. Ждал из стоялой жары вокруг хоть какой-нибудь мысли, дуновения, ветерка…
– Мама, как ты думаешь, если папе показать… если прочесть ему мои «Дорожные наблюдения» – они ему понравятся?
– Понравятся, Митя… Он очень любил читать. И тебе всегда читал. Сказки… Ты этого не помнишь, конечно. Маленький был…
– Помню… – не совсем уверенно сказал Митька. И тут же хотел рассказать про трактор. Только где это было? Ну конечно, в деревне! Осенью. Возле правления колхоза. Трактор стоял большой, маслянистый, жаркий, бил чёрными чубами из чёрной трубки вверх. И там же, высоко, как на небе, вцепившись в гладко-белые железные палки, сидел тракторист-дяденька (отец сидел?), и такой же чёрный, маслянистый, чубатый, белозубо улыбался. Кто-то подхватил Митьку сзади под мышки (дедушка подхватил?) и кинул на верх этого высокого горячего чудища. Прямо в руки дяденьке. И трактор сразу как обезумел – и понёсся по выгону, и побежал. Выкатил из деревни – и открытый всему миру просёлок быстро забултыхался Митьке навстречу, бил в лицо то горячим, моторным, то холодным, с осенней вывороченной стерни, а когда Митька поворачивал голову назад, к деревне, просёлок сыто швырялся масляной землёй. И дяденька что-то пел, кричал, и дёргал, дёргал с Митькой эти гладко-железные палки…
Так было это всё или не было?.. Себе в подтверждение Митька хотел спросить… и осёкся: согнутая спина матери опять вздрагивала, голова приклонялась к носовому платку…
«Папа… что сделать… чтобы мама… не плакала?..» – впервые написал в тетрадке карандаш… и, глядя на эти медленные, трудные слова, словно не им, Митькой, написанные… слова, закрывшие всё в тетрадке, всё написанное ранее… Митька не выдержал и заплакал… Открытый всем, беззащитный.
– Ну что ты, сыночек! Что ты!..
– Ма-ма-а-а… – некрасиво, больно наморщивалось, кривилось в плаче веснушчатое мальчишечье лицо…
Потом смотрели они на дикоусые остановившиеся часы в конце перрона, на белые рельсы, мучительно уползающие к горизонту…
19Товарняк на Алма-Ату заорал, ударил станцию вечером, почти на закате дня. Целый день, подлец, выжидал чего-то на запаснике. И сотни людей посыпались с перрона, бежали к нему, падали, рассыпаясь по рельсам детьми и вещами…
Катя и Митька неслись вдоль состава, пропуская и пропуская вагоны с насмерть бьющимися людьми. Всё так же ревел, стегал паникой паровоз. И вдруг: «Сюда, сюда, мамаша!» В сдвинутой двери вагона присел на корточки парень – фиксой улыбается, пальцами манит: «Ну!..» Катя кинула наверх Митьку с баульчиком, чемодан, сумку, сама взлетела, вдёрнутая парнем. Смотри-ка, вагон-то пустой почти! Справа вон только люди какие-то. В карты вроде бы играют. Под нарами.
С левой половины вагона быстро натаскали соломы, накидали её к стенке, уселись прямо напротив двери: как повезло!
В широко расставленных ногах парня, внизу, появилась голова старика в малахае и молчком начала пихать в вагон мешок. «Куда?! Спецвагон!» – выпнул мешок парень. Но старик опять карабкался, и мешок за собой тащил. «Спецвагон, морда!» – заорал парень, пихнул сапогом старика в плечо. Старик и мешок исчезли. Снова появились. «Сгинешь ты, гад, или нет?!» Парень отдирал руки старика от двери. «Да что вы делаете-то?! – вскочила Катя. – Ведь свободно!..» – «Заткнись!» – процедил в её сторону парень. Вдруг ударил старика кулаком в лицо. Старик оторвался от двери, упал вниз. «Да как ты смеешь, подлец! – закричала Катя. – Ну-ка пусти!» Она хотела спрыгнуть к старику. «Сядь на место, сука, пока по рогам не вмазал!» Парень толкнул Катю от двери… Да что же это!..