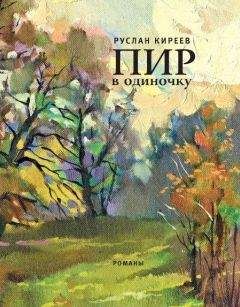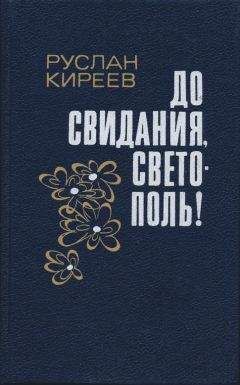Руслан Киреев - Посланник
Положив ручку, Русалочка произносит что-то – как всегда монотонно и тихо, под нос себе. Но профессор начеку.
– Не согласны с чем-то?
– Не я…
– Не вы? – удивляется преподаватель. – Кто же в таком случае? Аудитория затихает.
Аудитории по душе их препирательства.
– Единая идея – это сама жизнь.
– Истина и идея, – отечески уточняет доктор диалектики, – вещи разные. Это во-первых. А во-вторых, не единая, а абсолютная. У Гегеля это называется абсолютной идеей. Вы ведь Гегеля имеете в виду?
– Не Гегеля…
– Не Гегеля? Кого же тогда, интересно знать?
– Абсолютной идеи не существует.
– Браво! – хлопает в ладоши профессор. – Браво вашему мужеству. Нынче ведь не модно признаваться в материалистических воззрениях.
– Я ни в чем не признаюсь.
– Но если не материализм, то идеализм. Если не Демокрит, то Платон. Третьего, как известно, не дано.
Вообще-то он у меня небольшой любитель научных диспутов – уж я-то знаю! – но кажется, знает и она. Догадывается… Вот даже спорит не с ним как бы, а с кем-то другим, незримым.
– Третье – это жизнь. И чистая материя, и чистое мышление без нее мертвы.
Профессор поглаживает усы. Ему спокойней, когда этой близорукой феи нет в аудитории (уж не боится ли, что в один прекрасный день наденет очки?), но когда появляется – непременно с запозданием! – что-то заставляет его, к собственному неудовольствию, постоянно пикироваться с нею.А тем временем в сумерках цокольного этажа, прохладных и вечных, как космос Бергсона, копошатся при электрическом свете подвальные люди. Когда-то там ютилась столовая и некто с салфеткой на груди обстукивал яйцо. С тех пор Посланник во чрево Колыбели не спускался ни разу… Вот и выходит, что и тип тот еще сидит, обвязанный салфеточкой, и яичко не остыло, и Посланник не профессор вовсе, а студент – обыкновенный студент, которому не досталось места в общежитии. Хоть на вокзале ночуй! И ночевал бы, если б не чудаковатый сверстник, вдруг поведавший с улыбочкой, что снимает под Москвой небольшой домишко. Совсем небольшой, хибару, можно сказать, но сунуть раскладушку есть куда. «Поедем, если хочешь…» И улыбочка, вдруг проступившая, как проступает изображение на рентгеновском снимке, тоже не исчезла – живет. И женщина со змейкой – не доцент еще, а юная аспирантка, портрет которой набрасывает карандашом вдохновенный соученик. «Надеюсь, – слышит, – мне подарят его?» «Зачем? Муж и так видит тебя». «Не видит… Теперь уже не видит». Рисовальщик обескуражен – обескуражен и даже испуган слегка – не ожидал такого поворота. «Но сына-то, надеюсь, навещает?..» Он жив, этот карандашный набросок, заперт вместе со мной на два замка, забыт, беспомощный и бесполезный, как беспомощны и бесполезны все на свете портреты и фотографии с их комичной претензией удержать то, что и не собирается исчезать. Да и куда? Некуда… Я хорошо ощущаю это, вслушиваясь по ночам в бой Совершенномудрого, каждый удар которого бесконечно мал по сравнению с вечностью и, следовательно, равен ей. Бесконечность-то едина – будь то бесконечность малого или бесконечность большого. Три-a не умер – люди вообще не умирают, о чем, в общем-то, догадываются, только не в силах осознать и оттого награждают собственным бессмертием выдуманных богов.
А коли смерти нет, то нет, получается, и рождения?..
Ах, Стрекозка! Как, интересно, развяжет юбилейный узелок мой кудесник?Едва на кафедру войдя, набирает номер Дизайнера. Долгие гудки, которые, конечно же, не прервутся: когда в этот час мастер бывает дома!
«Поедем, если хочешь». И все, и ни слова больше. «Прямо сейчас?» – «Прямо сейчас». О том же, какой у него нынче день – ни звука, и лишь когда добрались, когда загудела печурка, когда вырубили свет и гость произнес, вслушиваясь в шорох дождя: «Как в бабушкином сундучке», – признался: «А у меня сегодня день рождения».
Снова номер Дизайнера набрал – не домашний на сей раз, служебный. Так называемый служебный: лишь за жалованьем хаживает сюда.
– Константин Евгеньевич, – прожурчало в трубке, – в «Кашалоте».
– Где-где?
– В «Кашалоте». Фирменный рыбный магазин.
– Спасибо, лапочка. Это, наверное, у черта на куличках?
– Новогиреево.
– Я так и думал. И телефона, конечно, нет.
– Пока нет. Объект не сдан еще.
– Вы – прелесть. Я целую вам ручку.
Не судьба, стало быть. Но ничего, он не в претензии. Он вообще не сутяга по натуре (чего обо мне, увы, не скажешь) и, если уж с Пропонадом находит общий язык, то с небом и подавно не желает заводить тяжбы.
– Буду, – предупреждает лаборантку, – к Ученому совету! – И, захватив «дипломат», идет, быстрый и легкий, в легких туфельках по опустевшему коридору. В глаза солнце бьет, но уроженец юга не отворачивается. Загородившись ладошкой, всматривается в фигурку на подоконнике. Неужто Русалочка? Сей укромный пятачок отведен Пропонадом специально для курения, но, во-первых, перемена закончилась, а во-вторых… «Ты куришь?» – осведомился раз папаша-демократ у своей музыкальной дочери, хотя твердо знал: нет, не курит. Однако не удивился, услыхав: «Курю, папуля. Курю…»
Да, она на подоконнике, сторонница третьего пути.
– Теперь понятно, – уличает профессор, – почему вы опаздываете на лекции.
Нашарив босой ногой соскочившую плетенку, Русалочка медленно подымается.
– Извините…
– За что? – изумляется демократ. – И сидите, ради бога, сидите! То есть можете идти, конечно, потому что лекция началась, но можете и сидеть.
Мысленно же прибавляет, шалун: я ведь не проректор по надзору.
– Спасибо.
– Спасибо вам! За вашу активность… Мы, правда, так и не доспорили…
– Я не спорила…
– Но в принципе, – подымает миролюбивый атташе палец, – я с вами согласен. Серединный путь всегда лучше крайних.
– Соловьев не о середине говорит.
Профессор откидывает чубчик. Ох, уж этот Соловьев! Он нынче что Алла Пугачева, а вот, к примеру…
– Секст Эмпирик – слыхали о таком? – Солнце, как мощный юпитер, освещает моего артиста. – У нас этот античный философ, к сожалению, почти не известен. Но есть замечательная книга о нем – пока, увы, не изданная. «Шестой целитель» называется, Секст – шестой, Эмпирик – целитель. Хотя, – спохватывается, – что я! Вы ведь у нас полиглот.
На пальчиках, что торчат из плетенок, розовеют ноготки. Педикюр? А на вид – скромница, школьница. (И глазки потуплены.) Но школьница – упрямая, Школьница, которая все-то знает про своих учителей.
– Эмпирика не читала.
– Прочтете! И его, и о нем. Надеюсь, книжица появится. – Посланник сделал паузу. – Ее автору, – понизил он голос, – исполнилось бы сегодня пятьдесят.
Глаза подымаются – небольшие, с воспаленными веками глаза, в которых нет ничего русалочьего. Просто больна… Не сейчас – вообще больна. (Хотя, наверное, и сейчас тоже.) Полсеместра не ходила в прошлом году – спокойное было времечко.
И зачем только завел этот никчемный, этот опасный разговор! (Чем? Чем опасный, хозяин?) Прошел бы себе мимо…
Опустила наконец очи. И сразу легче задышалось, веселей, а в распахнутую форточку влетела с тяжелым жужжаньем праправнучка тех, кого пестовал некогда вениковский умелец.
– Наш выпускник, между прочим.
Пчелы сегодня преследуют его с самого утра – к чему бы это? (Запамятовали-с, хозяин! Если вы о существе, что стукнулось утром о стекло лимузина, то там не пчела была – шмель.)
Вновь подняла близорукие свои глаза и, чуть сощурившись, посмотрела… Не на него – если б на него! – сквозь. Почти как внук утром.
Бинокль, любимая услада стареющего узника, выпал из рук, он вздрогнул и отшатнулся. Поздно: взгляды наши встретились. Тюремщик, перетрухнув, что-то о вреде табака понес, о дочери, которая тоже курит, мерзавка…
– Ладно, барышня. Не буду мешать вам. Но на лекции, – погрозил игриво, – лучше не опаздывать.
И – прочь поскорей, прочь, к лимузину, который помчит сквозь солнце и пчелиные траектории туда, где решается судьба «Шестого целителя».Лица нет, что-то темное вместо лица – испуганный малыш прижимается к матери (значит, мать жива еще), и никто почему-то не объяснит ему, что это всего-навсего пасечник. (Три-a объяснил… Но когда?!)
А может, не пасечник? Почему ульев не помнит? Почему не помнит пчел? Вот черных птиц – тех помнит: и в небе, на фоне белой колокольни, и внизу, на белом снегу, хотя, если разобраться, вовсе не птицы это, а обыкновенные семечки. Высвободив руку из теплой ладони, малыш опускается на корточки, близко, внимательно рассматривает. Мать вверху тихонько смеется. Наверное, сморозил что-то, но что – затерялось во времени. И слова затерялись, и голос, а смех все кружит да кружит вокруг поселка Грушевый Цвет.
Посланник – тот не слышит смеха. Это ведь аномалия – слышать канувшее в небытие, а он как истый спартанец терпеть не может аномалий, будь то обыкновенный насморк, бессонница (я бессонницу переношу спокойно), веки Русалочки – воспаленно-красные, с редкими ресничками, или пергаментная прохладная кожа Кафедры Иностранных Языков. Ох, старики! Всегда ненавидел запах тления, а от них исходит именно этот запах… Философствовать – значит учиться умирать? Чепуха! Философствовать – значит учиться жить, вот девиз доктора диалектики. «Так говорил Заратустра?» – обронил Три-a с рентгеновской улыбочкой. «Ничего п-подобного, – заморгал глазками доктор диалектики. – Ницше агрессивен, а я, ты знаешь, не люблю агрессивности».