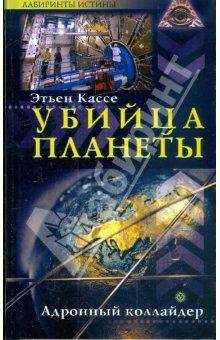Михаил Веллер - Игра в императора
Жихарева вспотела. В ней происходила отчаянная борьба, которую моралист назвал бы борьбой добра и зла, а психолог – борьбой между самолюбием и потребностью в общении. Самолюбие победило.
– Нет, – сухо сказала она, с трудом превозмогая себя. – Я уж у себя посижу, посмотрю телевизор.
Но глаза у нее были на мокром месте, и прощалась она со Звягиным не без ласковой приязни.
Так и хочется закончить, что с этого момента наступил перелом, добро возобладало, и соседи превратились в лучших друзей. Такое тоже бывает. Но, видимо, не в столь запущенном случае…
Перемирие длилось неделю – а потом все началось сызнова: на больший срок, к сожалению, растроганности Ефросиньи Ивановны не хватило, и застарелая привычка, давно превратившаяся из второй натуры в натуру первую, взяла верх.
Нет ни необходимости, ни возможности перечислять все те ухищрения, с помощью которых можно вконец отравить существование ближним. Ефросинья Ивановна владела полным арсеналом с искусством профессионала. Неизбежный кризис назрел.
– Не судиться же, в самом деле, с несчастной старухой, – сказал Звягин. – Одинока она, вот и мучится.
– Но почему мы должны мучиться из-за нее? – справедливо возразила жена. Ее нервы сдали.
– А тебе ее совсем не жалко?
– А меня тебе не жалко?.. – не выдержала она.
Звягин подтянул галстук, накинул пиджак и пошел по соседям.
В этот вечер он многое услышал от Марии Аркадьевны и Сенькиной из десятой квартиры – двоих из тех, кто в цвете молодости, сожженной войной, пережил здесь блокаду – санитаркой, телефонисткой, зенитчицей, токарем, или в первое послевоенное время, полное тягот и надежд, приехал из разных краев работать и искать свою долю в прославленном и прекрасном городе, обедневшем людьми.
И он узнал в этот вечер, что родители Жихаревой умерли в блокаду, муж и брат погибли на фронте, а трехлетнего сына эвакуировали через ладожскую Дорогу жизни на Большую землю, но колонну бомбили, и их машина ушла под лед… Помнили время, когда молодая Фрося была веселой и заводной, не найти никого приветливее, – а после войны это был уже совершенно другой человек, замкнутый и скорый на злость. А как вышла на пенсию – тут просто спасу от нее не стало. Ее жалели – но для жалости требуется дистанция, потому что когда человек ежечасно отравляет тебе жизнь, жалость как-то иссякает и уступает место злости, в чем проявляется, видимо, инстинкт самосохранения.
Звягин вернулся в полночь задумчив, налил ледяного молока в высокий желтый стакан, кинул туда соломинку и застучал пальцами «Турецкий марш»: ловил смутную мысль, принимал решение.
– Ведь она нам просто-напросто смертельно завидует, что у нас все в порядке, – проговорил он. – Больно ей…
– А что делать? – безнадежно спросила жена.
– Чтоб не завидовала… – был неопределенный ответ.
– Ты предлагаешь мне овдоветь? – съязвила она.
Ночной разговор в спальне был долог. Подытожил его Звягин философской фразой:
– У нас есть только один способ стать счастливыми – сделать счастливым другого человека.
После чего выключил торшер и мгновенно заснул.
Сутки на «скорой» выдались удивительно спокойные, все больше гоняли чаи на подстанции. Посмеиваясь, Звягин обсуждал с Джахадзе, как искать пропавшего человека. «Обратиться в милицию». – «Милиция ответит, что такого нигде нет…»
Наутро после дежурства он входил в высокие створчатые двери Музея истории Ленинграда.
Завотделом истории блокады, огненноглазый бородач, пригласил его в крохотный кабинетик и уловил суть дела сразу:
– Мы вам помочь ничем не сможем. Вот телефоны городского архива, фамилия завсектором блокады – Криница, сейчас я ей позвоню, что вы от нас.
Он обнадежил Звягина: случаи, когда считавшиеся погибшими люди обнаруживаются через десятки лет после войны, бывают много чаще, чем обычно думают: «Ведь десятки миллионов судеб перепутались!..» Взглянул на часы и побежал в экспозицию.
В проходной архива пропуск на Звягина уже лежал. Звягин настроился встретить дребезжащих старушек вроде «веселого архивариуса» из передачи «С добрым утром», но в комнате без окон, оклеенной рекламами, девочки после университета пили кофе и обсуждали фильмы Алексея Германа. Девочки стали строить глазки.
– Если вы точно знаете даже число отправки через Ладогу, это будет несложно, – улыбнулась Криница, крупная яркая блондинка.
Ему дали заполнить бланк и велели зайти завтра.
Жена, заразившись идеей поиска, весь вечер выспрашивала подробности и выдвигала варианты, типа привлечения юных следопытов.
– Хватит и того, что я на старости лет устроился в следопыты, – скептически сказал Звягин.
Конец ниточки нашелся.
Криница положила перед ним толстую серую папку:
– Вот – эвакуация детей школьного возраста в марте сорок второго года.
– Впервые в жизни радуюсь бумажной бюрократии и всяким справкам, – признался Звягин. – Во всем есть хорошая сторона, м-да.
На заложенной странице 317-Б была строчка среди прочих:
«Жихарев Петр Степан., 1938 г. р., 12 марта 1942 г.»
Криница перелистнула несколько страниц назад:
– Направление транспорта – Войбокало на Вологду.
Из документов эвакуационного бюро явствовало, что триста пятьдесят пять детей в сопровождении одиннадцати воспитательниц отправлены через Ладогу в эти сутки. Чем и исчерпывались данные.
– Надо запрашивать Вологду, – сказала Криница.
– В Вологду такой не прибывал… – ответил Звягин.
Принялись строить версии. Могли утопить машину на Ладоге, да. Могли обстрелять. Могли бомбить поезд уже восточнее. Мог в эвакуации уже умереть от элементарной дистрофии, – но тогда была бы запись на месте, легко выяснить. Это – худшие варианты.
А мог ведь и остаться в живых. В сутолоке тех страшных военных дней мог отбиться от своей группы, потеряться на станции, могли перепутать вещи и одежду в санпропускнике, мог список погибнуть, вместе с воспитательницей или старшей сопровождающей, мог быть ранен или контужен и забыть по малолетству свои имя и фамилию, да мало ли что могло быть… Все могло быть.
Запрос в Вологду Звягин направлять не стал. А попросил на работе поставить ему дежурства в графике на декабрь так, чтоб вышла свободная неделя подряд: взамен он отдежурит тридцать первого декабря и второго января.
Слякотным и мглистым декабрьским утром он кинул в портфель чистые рубашки, бритву и блокнот, принял заказы домочадцев на «настоящие вологодские кружева» и поехал в аэропорт.
В Вологде скрипел и искрился снег, воздух был розов, дышалось легко, Звягин пожалел, что по офицерской привычке не таскать с собой ничего лишнего он не захватил тренировочный костюм: взять бы в прокате лыжи и пробежаться хоть часок.
Он снял койку в гарнизонной гостинице, где всегда легче с местами, и позвонил в архив.
Размещался архив в стареньком двухэтажном здании, и пахло в нем именно классическим архивом: старой бумагой пахло, пылью и мышами. Опекаемый старенькой бодрой заведующей, Звягин провел здесь остаток дня и еще весь день, и узнал следующее.
Из трехсот пятидесяти пяти детей и одиннадцати воспитательниц, фамилии которых он скрупулезно переписал в Ленинграде, в Вологду прибыло триста девятнадцать детей и десять воспитательниц. Жихарева Петра среди прибывших с той партией эвакуированных ленинградских детей – не значилось. Следовало предположить, что да, одна машина Ладогу не пересекла…
Новостью это не было – подтверждалось лишь известное.
Больше заинтересовало Звягина другое. В том же марте сорок второго года 37-й детский дом имени Маршала Тимошенко принял в числе поступивших еще с двумя партиями из Ленинграда четырнадцать человек с пометкой «родители не установлены»: малолетки, чьи документы каким-либо образом затерялись, и кто не мог назвать ни родителей, ни адреса, ни порой фамилии и даже имени. В мае сорок третьего года при слиянии двух детдомов они были переведены в Киров, в детский дом для сирот войны.
Четверо из них были мальчиками, возраст которых записали как трехлетних.
– Спасибо, – сказал Звягин, вручая старушке-заведующей торт, – кое-что я, кажется, нашел.
Ночь он проспал в приятно постукивающем поезде и сошел в Кирове с ощущением близости цели.
В облоно все нервничали, бумаги летали, вихрь проносился по коридорам: грянула какая-то проверка.
– Я к вам из Краснознаменного Ленинградского округа, – нагло представился Звягин в отделе кадров. – Требуется справочка…
Оказалось, что детский дом закрыт в шестьдесят первом году.
– Списки хранятся, безусловно. Срочно? Зайдите завтра…
В списках значились и те четверо уроженцев Ленинграда, эвакуированных в марте сорок второго года; именовались они как Петрищев Сергей Анатольевич, Середа Николай Александрович, Вязигин Павел Гаврилович и Хабаров Павел Павлович. В сохранности были и личные дела. («Имена, фамилии? Называли в честь близких, друзей, спасителей, писали иногда свою фамилию или придумывали что-нибудь – ведь без имени и фамилии человеку никак…»)