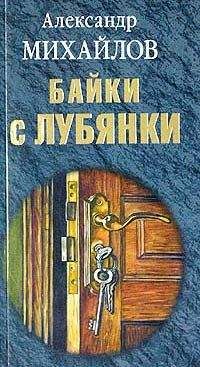Давид Ланди - Биоген
Все это время Лешка, успевший перевалиться через забор, не оставляет наивных попыток вырваться из стальной хватки санитара. Врачиха командует медсестре:
– Беги за второй рубашкой!
Степаныч сдергивает Лешку с забора, как с пальмы банан, и прижимает мальчика к земле. Маргарита Юрьевна приносит вторую рубашку, и они одевают ее на бьющегося в истерике подростка.
Леха кричит:
– Я сам! Я сам! Только не колите! Не делайте мне уколов!
Связав Лешку, Степаныч берется за кровоточащее ухо и, не обнаружив его на месте, верещит благим матом, как недорезанный поросенок:
– Сволочь! Он мне ухо откусил! «Скорую»! Скорее «скорую» вызывайте!
Санитар пулей летит к связанному на земле Дебилу. Алевтина Андриановна спешит в помещение вызывать карету.
– Где ухо, паразит? – набрасывается на Дебила медбрат. Он старается открыть ему рот, но Дебил стискивает зубы, и Степаныч чуть не лишается пальца.
– Открой рот, идиот! – вопит потерпевший, нанося больному тяжелые оплеухи.
Медсестра, как обученная ищейка, рыщет на корточках по земле, повторяя путь Дебила от сетки к месту борьбы. Добравшись ни с чем до палача и жертвы, она заискивающе шепчет:
– Может, он его все же выплюнул?
Продолжая методично обрабатывать Федю, санитар орет:
– Сожрал он его, падла! Я по глазам его сытым вижу – сожрал!
Тяжелые пощечины впечатываются листьями канадского клена в пухлые щеки мальчика. Не получив желаемого результата, санитар переворачивает Дебила и кладет, как свежевыловленного утопленника, животом на свою коленку. Он барабанит Федю кулаками по спине, надеясь, что в этой позе тот отрыгнет ухо быстрее. Но и этот прием не приводит к очищению желудочно-кишечного тракта Феди от инородного тела санитара. Вдруг медсестра подпрыгивает на две конечности и со словами: «Сейчас он откроет свой поганый рот!» – разбегается и со всего размаху бьет Дебила ногой в то место, куда ему только что сделали укол. Взвыв, Дебил выплевывает ухо Степаныча и корчится от боли.
– Вот оно! – радостно горланит счастливчик, хватая ухо и стряхивая с него песчинки родной земли. Они падают на прежнее место, успевая перед этим напитаться кровью и слюной своих земляков.
– Чуть не сожрал его, боров! – восхищенно констатирует мужик в белом халате, разглядывая и обдувая на свету пожеванный отросток тела.
– Волоки его внутрь, я скорую вызвала! – зовет Степаныча выбежавшая на улицу Алевтина Адриановна. Степаныч закидывает Дебила на окровавленное плечо и тащит его в помещение.
Врачиха командует: «Все бегом в палаты!»
Ошарашенные произошедшей на их глазах фантасмагорией, дети послушно плетутся в здание. Медсестра ведет замотанного Лешку. Тот ноет. Площадка пустеет. Порядок восстановлен. Победителей не судят.
В палате Леше вкалывают двойную дозу аминазина и даже не привязывают его к койке.
Распластавшись, как медуза на горячем песке, он смотрит стеклянными глазами в одну невидимую точку на посеревшем к вечеру потолке… Аминазин угнетает рефлекторную деятельность Лехиной нервной системы, и, продолжая внешне бодрствовать, он отсутствует в больнице напрочь.
Тем временем сульфозиновая боль начинает прощаться с телом Давида, напоминая о себе лишь легкими прострелами, берущими свое начало в принявшей на себя удар ягодице.
Следующая неделя проходит без происшествий. Лехе регулярно колют аминазин, и он становится безразличным к окружающим его событиям. На выходные приезжает мама и привозит мое любимое «Ленинградское» печенье. Я уже понимаю, что просить ее забрать меня отсюда бессмысленно, так как она ничего не решает, и поэтому не жалуюсь, чтобы не расстраивать ее понапрасну.
В конце третьей недели Тихоня вдруг объявляет, что Алевтина Адриановна сказала ему, что завтра его выпишут. К тому времени Лешку уже перестают накачивать аминазином, и после слов Тихони он садится на свою койку и плачет. Витек пытается его успокоить:
– Леха, заканчивай! Адрияга запретила тебе плакать. Увидит, опять уколет. Слышишь, Леха?
Лешка ревет тихо, почти беззвучно. Тихоня подходит ко мне и, оглянувшись на Лешу, шепчет:
– После той истории Леша очень много плачет.
Витек слышит его слова и заступается:
– Тихоня, ты бы тоже плакал, если бы тебя неделю продержали на уколах.
Все молчат. Тихоня вздыхает:
– Уже прошел месяц летних каникул. Мама сказала, что отвезет меня в деревню к бабушке, чтобы я там отъедался. Но я совсем не хочу есть… Иногда мне кажется, что еда живая…
Витек настороженно переспрашивает:
– Живая?
Тихоня заговорщически шепчет:
– Да… Мне кажется, что мясо коровы не мычит, когда я его кусаю, только потому, что оно отделено от горла и головы.
Витек взрывается:
– Слушай, Тихоня: поставь весла в угол и приготовься к выписке!
Тихоня испуганно оправдывается:
– Но я не обманываю, Витя, это правда…
– Вот поэтому и говорю – оставь весла в покое!
Пауза.
Слышно, как за окном гудит проплывающий по Волге пароход. Звук поднимается в гору, задерживается на ее вершине и, перевалив через преграду, растворяется на другой стороне в кустарниках дикого терна. Тихоня не унимается:
– Один раз в деревне я видел, как мой дедушка убивал корову… Он вывел ее на зады, привязал за голову к дереву, взял кувалду и со всего размаха ударил свою корову по голове… Я испугался и подумал, что он разбил ей голову. Но корова только упала на передние колени и стала молча смотреть на нас. Ты знаешь, Давид, какие большие у коровы глаза? – обращается он вдруг ко мне.
– Знаю, – отвечаю я, вспомнив корову бабушки Гали.
– Моя вторая бабушка, папина мама, живет за Волгой, и у нее есть корова, – оповещаю я Тихоню.
Тихоня понимающе качает головой и продолжает:
– Стоя перед дедом на коленях, корова смотрела-смотрела, смотрела-смотрела, и мне показалось, что она спрашивала дедушку: «За что ты меня так бьешь?..» Но дедушка ничего не ответил, и тогда корова опять встала на все четыре ноги. А дед поплевал на ладони и снова взялся за кувалду. Он так сильно размахнулся на этот раз, что я испугался, как бы дедушка не попал корове по ее большому черному глазу. Но дед попал в то же место. Понимаешь? – он ударил ее со всей силы в то же самое место… Со всей силы!
– Понимаю, – отвечаю я, не понимая, к чему он клонит.
– После второго удара я решил, что ее голова расколется, и очень боялся увидеть трещины. Но корова опять упала на колени, а из ее глаз потекли слезы… Они текли и текли, а ее добрые большие глаза смотрели на меня и говорили уже мне: «За что?.. За что дедушка так сильно бьет меня по голове?» Я стоял сзади дедушки и не знал, что ей ответить. Тогда дед взял огромный нож, подошел к корове, воткнул нож ей в горло и стал резать сверху вниз. Сначала он резал ее горло к земле, а когда разрезал, перевернул нож заточенной частью наверх и стал резать к небу, до тех пор, пока не уперся во что-то твердое. А корова все это время продолжала послушно стоять на коленях и беззвучно плакать…
Тихоня замолкает.
– А что было потом? – спрашивает его Леша.
– Потом ничего не было… Бабушка сказала, что я потерял сознание[503].
Пауза.
– Это он ее оглушал, чтобы телка не чувствовала боли, когда ее режут, – разъяснил процедуру Витька.
– Наверное. Но теперь, когда мне дают мясо или котлеты, мне кажется, что это дедушкина корова, и я сразу представляю, как всех их режут большими, остро заточенными ножами и бьют по голове кувалдами. Поэтому я не могу их жевать. А мама злится…
– Тихоня, ты только не говори, пожалуйста, про это Адрияге, а не то твоя выписка отложится на неопределенный срок, – говорит Витька и опускает голову на руки.
– Нет-нет! Я ничего не говорю Алевтине Адриановне… Просто мне совсем не хочется есть в последнее время.
Пауза.
Где-то за окном слышен приветственный гудок парохода и первые аккорды «Прощания славянки». Витек шепчет, не поднимая головы:
– Моя бабушка считает, что коровы и есть наш Иисус… Он в каждой из них, так же, как они в каждом из нас. И через них он несет свой крест страдания за все человечество… Раньше люди об этом знали, но потом забыли…
Пауза.
Лешка всхлипывает. Мне становится его жалко.
– Не плачь, Леша. Меня же тоже не выписывают.
Витек отрывает голову от рук и произносит голосом, в котором пробегают нотки затаенной злобы.
– Леха, слышишь меня? Выпишут тебя! А не выпишут – вместе убежим!
Сквозь слезы Леха бормочет:
– Я уже два раза убегал. Первый раз на два укола набегал. Второй раз на три. Четыре укола я не выдержу! Больше не побегу. Здесь буду жить!
Витек не сдается:
– А кто так бегает? Только Адриягу разозлил и внимание привлек! Степаныч на прогулках от тебя глаз теперь не отводит.
Витя подходит к Лешке и обнимает его за плечо:
– Ну, перемахнул бы ты через забор, а дальше что? Куда побежал бы в больничной робе – подумал?
– Не знаю, – всхлипывает мальчик.