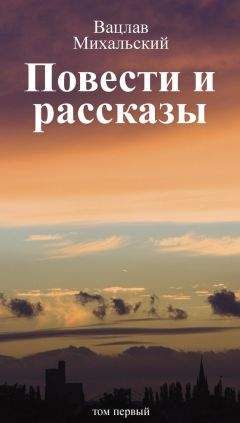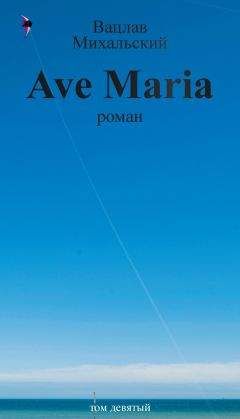Вацлав Михальский - Собрание сочинений в десяти томах. Том третий. Тайные милости
Несмелый верховой ветерок трепетал в верхушках обступивших полянку подбористых буков, словно литые, матово-гладкие их стволы отсвечивали светлой прозеленью; от всего их ладного, крепенького облика сквозило здоровой молодостью, чистотой, строгостью твердой породы. Высоко в бирюзовом небе теснились легкие кучевые облака, видно уже опустевшие, пролившиеся дождем где-то в других краях или еще не успевшие набухнуть.
У самого Катиного лица, напугав ее, пролетела оса, мелко дрожащая от напряжения собственного полета, двоящаяся перед глазами, тяжко брунжащая, верно, под грузом взятка, может быть, последнего в этом году, – дело к осени.
«Ху-до! Ху-до!» – вдруг прокричал где-то совсем близко удод, и Георгий тотчас вообразил всю его ярко-пеструю, необыкновенно важно покачивающую хохолком, уныло пророчащую на лесных пустошах, перебегающую от дерева к дереву, дурно пахнущую клоунскую фигурку.
Сбитая из почерневшего от времени горбыля, низкая дверка землянки вдруг отъехала, кособоко покачиваясь на единственной ржавой петле, привычно прочертила по земле выбитую дугу, и из темной дыры показалась кудлатая черная голова неизвестного, оказавшегося углежогом.
Он вылез из землянки на четвереньках, а когда поднялся на ноги, перед Катей и Георгием предстал молодой двухметровый гигант. Черная майка, едва ли не приросшая к его телу за давностью лет, подчеркивала необыкновенно покатые плечи, переходящие в толстый и высокий ствол шеи, удерживающей маленькую, со срезанным подбородком, узкую и необыкновенно кудлатую голову; землисто-черного цвета пятнистые галифе плотно облегали толстый откинутый зад и толстые икры длинных ног с огромными босыми ступнями. Верзила жмурился от яркого света, и потому на его исполосованном сажей потном лице были хорошо видны лишь толстые мокрые лиловые губы. Наконец он открыл глаза как следует. Они у него оказались угольно-черные с красными со сна белками. «Траурные», – насмешливо подумал Георгий, стараясь подавить разливающийся в груди противный, колющий холодок. Не обратив на него ровно никакого внимания, верзила впился этими своими глазищами в Катю, как бы всасывая, вбирая ее всю с головы до ног. Особенно он задержался на ногах, обхватывая, обнимая ошалевшим взглядом ее бедра, а затем долго, немигающе целясь в разрез между полами Катиного халатика. Он смотрел так отрешенно, так длительно, что Георгий решился заслонить Катю собой, шагнув к верзиле и протягивая ему для знакомства руку.
Ладонь Георгия утонула в широкой, как совковая лопата, пятерне углежога, и по тому, каким вялым было его рукопожатие, опытный Георгий понял, что перед ним человек огромной физической силы.
– А для чего уголь? – спросил Георгий, чтобы сказать что-нибудь ради приличия и уйти подобру-поздорову, – очень уж не понравился ему похотливый, неуправляемый, всасывающий Катю взгляд углежога, его свисающие вдоль тела длинные гладкие корневища могучих рук, топор, поблескивающий на земле. – Так для чего уголек?
– На подводе приезжают, – пожал мощными покатыми плечами углежог, задумался и добавил: – Дядя Ахмед сказал, лесничий…
Десять лет работал он в местном леспромхозе, валил старые, указанные ему лесничим дядей Ахмедом тополя, корчевал пни, жег в яме, раз в неделю приезжали за углем на подводе, а для чего все это делалось, он никогда не задумывался. Вопрос Георгия ошарашил молодого углежога настолько, что он еще долго плямкал толстыми лиловыми губами, раздумчиво чесался в забитой золой голове и после того, как Георгий и Катя торопливо скрылись за деревьями.
– Дебил какой-то, – прижимаясь к Георгию, нервно усмехнулась Катя. – Я так испугалась, думала – сейчас кинется на меня, и все…
– Ну уж, так и кинется, – неискренне сказал Георгий, оглядываясь в сторону куреня с тайной мыслью, не крадется ли углежог следом, присматривая одновременно беглым взглядом какую-нибудь дубинку на всякий случай. Холодный липкий страх завладел Георгием еще в ту минуту, когда показалась из землянки черная кудлатая голова углежога, и сейчас ему было стыдно в этом признаться не только Кате, но и самому себе. Давно с ним такого не было – с детства, когда он залез однажды на высокую трансформаторную будку с нарисованными белилами костями и черепом на серых железных дверцах, а потом вдруг увидел в щель между створками, как проскакивают в утробе трансформатора синие искры, и понял, что не сможет слезть назад. Когда лез, не боялся, а тут вдруг явился страх, что его непременно убьет электрическим током, – непобедимый, животный страх. Прыгать было высоко – метра четыре, притом на асфальт, но другого выхода он не видел, – отбил босые пятки, падая, сшиб до крови локоть, но остался жив и в общем целехонек.
Наконец они вышли из леса на открытый берег. В лицо ударило морским ветерком, свежестью, простором, и сразу захотелось перевести разговор на что-то такое же большое, значительное, как море, как сама жизнь, и, стараясь победить в своей душе страх перед углежогом, безотчетно унизить его грубую силу, Георгий сказал:
– Представляешь, он даже не знает, для чего уголь, для чего он живет и работает, ради какой конечной цели!
– А ты знаешь? – вдруг, посмотрев на него с обезоруживающей улыбкой, спросила Катя.
– Я…
Катя сняла сабо, джинсовые с лиловыми розочками, и пошла, разбивая босыми ногами белую кромку прибоя, показывая всем своим видом, что она не настаивает на ответе, она понимает – не так все просто, как кажется.
XXVII«А ведь Катя права! Конечно, я отличаюсь от углежога, но так ли велико наше различие?»
Вопрос этот ударил в сознании Георгия неожиданно, как ударяет на краю неба зарница, как дергает ток, когда вдруг стукнешься локтем.
Пологие, накатистые волны с шипением отбегали по зеркально светящемуся песку, на котором лопались радужные, ослепительные пузыри и от плотной, мокрой глади которого веяло йодистой свежестью всего моря, радостью целой жизни, дыханием полного счастья, которое дается человеку только раз, один-единственный. Вдруг взблеснула серебристым боком укаченная тарашка, и тут же ее накрыло пеной новой волны, подсекло отливной тягой и, вертя, утащило в пучину. Точно так же, как унесло взбаламученной водою тарашку, смывало навсегда следы босых Катиных ног.
С неиспытанной прежде горькой нежностью ловил Георгий глазами мельканье шершаво-светлых от морской соли, словно налитых Катиных икр, блеск ее омываемых водою тонких щиколоток, легкое покачивание бедер, движение цветастого халатика по всей спине, раздуваемые моряной тонкие русые волосы, темные у корней, там, где обнажался под ветром беззащитный затылок, всю ее молодую, чистую стать, все ее существо, показавшееся Георгию как никогда родным.
Она шагала метров на десять впереди него легко и свободно, крепко ставя ноги в прибойной кромке, печатая шаг за шагом молодой четкий след, тут же смываемый неотступными волнами.
Вдали за деревьями мелькнула оранжевая палатка. До нее оставалось пройти лишь бывший рыбозавод. Остовы лодок, обкрошившиеся бетонные чаны для засолки рыбы, заросшее выгоревшей травой полотно узкоколейки, поломанная лебедка с кривой ручкой ворота, тяжело просевший в песок полусгнивший баркас, а под его кормою, в прибойном кружеве пены, торчащая, как клык, кованая лапа трехпалого якоря – все это крупнело на глазах, приближалось неотвратимо… Еще одна серебристая рыбка мелькнула в опадающей на берег волне, и Георгий кинулся поймать ее, но ухватил между пальцами лишь поднятый со дна зернистый песок. А Катя тем временем поравнялась с баркасом. Забредая в прибойную полосу, чтобы обойти его с моря, она вдруг потеряла равновесие, нелепо взмахнула руками, отбрасывая от себя сабо, как будто пытаясь ухватиться за воздух, и, подсеченная новой волной, опрокинулась навзничь, ударясь затылком об острие торчащего из закипевшей волны трехпалого якоря…
К полудню следующего дня все формальности были исполнены.
…Выяснилась спасительная для Георгия подробность (мир тесен): Катина соседка по поселку самовольщиков – самый близкий ей там человек – тетушка Патимат оказалась дальней родственницей старого Сулеймана. Он не раз навещал ее, видел Катю и угощал ее Сережу яблоками из детдомовского сада. Старый Сулейман предложил выдать погибшую за гостью его семьи, приехавшую на отдых, и похоронить в ауле.
– Уезжай. Теперь ничего не изменишь, я все сделаю сам, а мальчика возьму к себе. У меня своих шестеро и целый детдом – я его никогда не обижу, не бойся, – скороговоркой уговаривал он Георгия, постукивая по его плечу Катиным паспортом под пыльной яблонькой во дворе райцентровской больницы, где должно было производиться вскрытие трупа.
Георгий ничего не ответил, только покачал головой.
В нагретом августовским солнцем воздухе тяжело пахло формалином.
На трансформаторной будке возле морга чирикал воробей, белели нарисованные на серых дверцах череп и перекрещенные под ним кости.