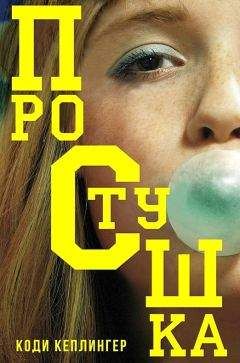Наталья Костина - Билет в одну сторону
– Ань, где ты целый день пропадаешь? Тебя главный искал…
Я на ходу отмахнулась от участливого тона Олега, даже не поинтересовавшись тем, что он меня наверняка отмазал. И сделал за меня мою работу. И, кроме того, он был МОЙ ДРУГ. И он был НАШ. Кто же тогда тот, кто лежит в палате? Кто?! И почему же мне так больно – как никогда в жизни?!
Я влетела в палату к НЕМУ, встала так, будто ОН мог меня видеть, и выпалила:
– Как ты мог?! Только скажи мне: как ТЫ мог?!!
Разумеется, он не открыл глаз. И ничего не ответил. Но то, что случилось дальше, потрясло меня даже больше, чем весь сегодняшний день, вместе с Жуком, его откровенным рассказом, нашими вопросами и ответами.
ОН плакал!! Из-под закрытых век катились слезы! Такие же слезы, как у меня час назад. Я стояла потрясенная и смотрела… а они скатывались прямо ему на шею и текли дальше – под одеяло.
Возможно, он не осознавал, что плачет, но я… Неужели Я не понимала, что со мной: как я теперь могу его ЛЮБИТЬ?? Но я, тут уж сомнений не оставалось, его любила: я ринулась к нему и прижала его голову к себе… баюкая, утешая, раскаиваясь в том, что только что сказала… что пустила к нему этого Жука, и одновременно радуясь, что произошел некий новый прорыв… Он плачет – значит, он чувствует! И он очнется! Очнется!
– Я не верю… – шептала я. – Слышишь? Я не верю… тебя тоже обманули… заставили. Ты не стал бы его убивать… никогда. Я же знаю. ЗНАЮ!
У меня в кармане настойчиво завозился телефон. Наверное, это разгневанный главный… Я машинально нажала на кнопку и ответила:
– Да?
Но это был все тот же Жук… И что ему не ехалось обратно?!
– Доктор Мурза? – зачем-то спросил он.
– Я самая.
– Знаете… я тут подумал. Он, выходит, мне тоже жизнь спас? Если бы он меня убил… никто вообще ничего бы не узнал. И деньги… Без них мы бы не выбрались обратно.
Я молчала – просто не знала, что ответить.
– Может быть, он все же жертва… обстоятельств? Почему… почему вы молчите?
Что я могла ему ответить? Однако было одно – то, о чем я НЕПРЕМЕННО хотела сказать ему, этому Андрею Жуку:
– Он плакал.
– Как?.. – опешил он.
– Плакал. Я пришла в палату, и он вдруг расплакался.
– Так он что, очнулся?!
– Нет. Все по-прежнему.
– Но он… очнется? – осторожно спросил Жук.
– Я не знаю, – откровенно ответила я.
Да, сегодня все по-честному: вопросы, ответы…
– Слезы – это, наверное, хорошо. Но я правда, не знаю. Это первая… первая кома в моей практике.
Первая кома в практике. Первая любовь. Настоящая. Горькая. Наверное, ненужная.
– Я позвонил потому, что забыл вам сказать, как его зовут. Это важно?
Я даже задохнулась.
– Да, – поспешно выпалила я в трубку. – Конечно!
– Эти двое называли его Грек. Может быть, это как-то поможет?
– Конечно, – еще раз сказала я. – Думаю, да. Спасибо.
– И еще: если будет нужно что-нибудь… для этого Грека. Позвоните. Хорошо? Все-таки он… он не подлый, понимаете? Он мог бы просто пристрелить меня и закопать. И никто бы не узнал, – еще раз повторился он.
– Вы его простили?
– Конечно, – легко сказал он. – Конечно… хотя это не сразу… до меня дошло.
– Скажите это ему, – попросила я. – Прямо сейчас!
– Как? – опешил Жук на том конце линии и, наверное, уже довольно далеко от госпиталя.
– Просто в телефон. Я подержу трубку.
Я прислонила трубку к его уху и держала так довольно долго. Я не слышала, что говорил ему Жук. Но я просто чувствовала, что так надо сделать. Что я – это единственное, что у НЕГО есть. Все, что у него осталось. Потом, может быть, у него появится целый мир. А сейчас есть только я. Как связь с этим миром. Как ниточка. Один раз я уже ощущала себя так… Нет, тогда я была иглой, сшивающей лицо и изнанку настоящего. Но игла – острый, колющий инструмент. Сейчас я не хочу колоть и ранить. Я просто нить. Удерживающая его. Вибрирующая. Не дающая упасть. Выпасть из времени. Из пространства. Перестать БЫТЬ.
Я услышала, как звуки в телефоне иссякли, и прислонила его к собственному уху. Он действительно молчал. Значит, они ПОГОВОРИЛИ. Да, именно так: поговорили. Слезы больше не текли из-под плотно сомкнутых век. И мне даже показалось, что эти веки дрогнули, но нет – мне все-таки показалось.
– Ты вернешься, – прошептала я. – И все мне расскажешь. Я знаю, что ты… ты не виноват.
Его веки снова дрогнули – теперь уже я могла бы в этом поклясться.
Дневник женщины, оставшейся неизвестной– А если переехать в Донецк?
Мы сидим с Маруськой на кухне – ее кухне, потому что моей, вернее нашей с Женькой, больше нет. Есть, правда, старый сарайчик в саду, где я совсем недавно хлопотала над запасами на зиму, есть погреб – со всеми нашими документами, с консервацией и даже тушенкой. Есть сад, яблоки, начавшие растрескиваться и сыпаться орехи, зелено-ржавые, тяжелые, как камень, зимние груши грузно оттягивают ветки, но это все уже НЕ МОЕ. Я говорю себе: «У тебя, в конце концов, есть Маруська и Марья Васильевна!» Да, они наперебой предлагают нам свое жилье, помощь и все остальное, но… я не буду жить У ЧУЖИХ. И это, конечно, касается не моей подруги и не Марьвасильны – под чужими я разумею не их, нет, а тех пришельцев, которые сейчас правят на нашей земле свой страшный бал.
– Если говорить начистоту… – начинаю я свою пространную речь, а Маруська, подперши кулаком щеку, участливо внимает.
Да, сегодня ночь откровений, и мне давно хотелось именно этого: открыть какие-то душевные шлюзы – и пусть льется… Истекает наружу. Душу тоже нужно периодически очищать. Может быть, если вытечет чернота, которая в ней сейчас, то ее место займет что-то новое, светлое? И потом, меня уже давно преследует такое чувство, что я сижу с чемоданами на вокзале, но только вчера я поняла, почему. У меня пропало ощущение РОДНОГО ДОМА. Пропало давно – и совсем не на прошлой неделе, как можно было предположить, когда мы с Женькой и свекровью завернули на нашу улицу и увидели, что того места, где родилась моя мама, я, а потом и Женька, больше нет. Однако именно после этого шока я смогла признаться себе, что рано или поздно, даже если бы наш дом остался целехонек, и даже если бы меня не уволили, и даже платили зарплату этими самыми новоросскими рублями или лугандонскими угольными фунтами, – я бы все равно приняла такое же решение. Нужно уезжать. Просто на это у меня ушло бы немножко больше времени. Но уезжать нужно все равно, потому что невозможно жить, все время зажимая в себе крик, стискивая в кулаке свою совесть, свое чувство собственного достоинства, чувство справедливости и еще много чего. Невозможно постоянно существовать под прессом страха: за своих близких, за себя, друзей, единомышленников… Обливаться по ночам холодным потом, ждать стука в дверь, выстрелов в окно… Да, я очень крепко пустила корни в эту землю. Я взрослое дерево, но даже взрослые деревья как-то пересаживают. Копают огромную яму, подрубают корни, замораживают ком… Мне подрубили корни и заморозили душу.
– Может, еще обойдется? – неуверенно спрашивает Маруська.
– Нет, – отвечаю я ей. – Нет. Не обойдется. Я – в черном списке. И ИСТОРИЮ НОВОРОССИИ я им преподавать не буду. Кроме того, они мне этого не позволят.
Моя подруга еще слабо сопротивляется:
– Ну, мне кажется, еще немножко нужно потерпеть – и наши придут…
– Наши не придут, Мась… – печально улыбаюсь я и прихлебываю из чашки остывший чай. – Я не хочу говорить, что они нас бросили, но… слишком сильно, наверное, нужно полить кровью эту землю, чтобы забрать ее обратно. Она того не стоит…
В глубине души, которая буквально рвется на части, я кричу: «Она того стоит! Стоит!» – но логика – упрямая вещь. У Украины сейчас слишком мало сил, чтобы вести здесь полномасштабную, настоящую войну. И потом: как же ОНИ будут сбрасывать бомбы на НАС? Они не сделают этого – по той же причине, по какой не смогли дать отпор в Крыму. СВОИ в СВОИХ не стреляют. Даже если эти свои – абсолютно чужие… Сколько же нам еще понадобиться времени, чтобы наконец это понять?
Я отворачиваюсь, чтобы снова не заплакать; я уже достаточно плакала в последнее время. И даже не плакала, а ревела. Билась в истерике, потому что так и не смогла откопать в грудах кирпича и известки наш семейный альбом. Меня не беспокоило то, что, похоже, безвозвратно пропали наши с Женькой теплые вещи – просто как сквозь землю провалились. Я рыла и рыла в поисках другого: отбрасывала, сдирая ногти в кровь и загоняя занозы под кожу, но… Наши семейные фотографии – огромный, толстый альбом в изрытом оспой малиновом бархате, – так и не нашелся. Как больно, когда отрубают корни! Бабушка, дедушка… приклеенные к серому картону, и просто вложенные между страниц черно-белые, милые, бесхитростно-любительские снимки. Они до сих пор так и стоят у меня перед глазами: мама, беременная мной, в саду, среди цветущих вишен. Вся семья за дощатым столом – я уже родилась, но пока даже лица моего никому не показывают: занавесили кружевным уголком, и бабушка держит меня на руках – толстенькое поленце, перевязанное розовыми атласными лентами. Все они дороги мне одинаково: выцветшие от времени старики-соседи на незамысловатых самодельных лавочках, флоксы в палисадниках, улыбчивая мамина родня; тетки с папиной стороны, чинно стоящие рядом с мужьями, – мешковатые брюки, сарафаны домашнего пошива в мелкий цветочек, в горошек, клетку, в узбекские радужные зигзаги… Если напрячься, то можно вызвать в памяти солнечный свет того самого утра, когда флоксы пахли особенно пряно и сладко, а бабушке, сидящей за длинным, накрытым белыми скатертями, через весь сад протянувшимся столом, – ей исполнилось тридцать. Тридцать – совсем как мне сейчас! Кажется, это и называют генетической памятью… Так неужели это все будет потеряно: и бабушка, неуловимо похожая на меня сегодняшнюю, и солнечная рябь на столах – свет шестидесятилетней давности, изливающийся щедро и ярко, – надежно запертое, законсервированное время? И я уже никогда в жизни не сяду рядом с Женькой и не покажу ей их всех – тех, кто жил для того, чтобы родились мы, а потом тех, кто придет вслед за нами. Я не хочу, чтобы от них остался только прах, только мимолетное воспоминание; для меня были важны и нужны эти выцветшие глянцевые прямоугольники, распластанных на толстых серых страницах с фигурно прорезанными насквозь уголками. Все может исчезнуть, потеряться, но не это – свет, любовь, память…