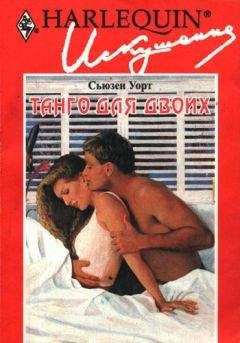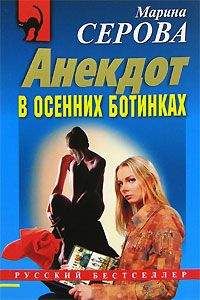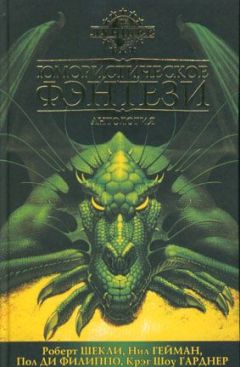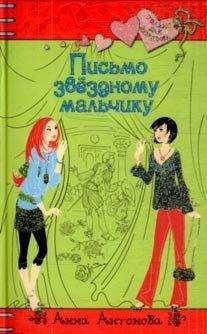Анна Мазурова - Транскрипт
Нет, бежать! Бежать и не сентиментальничать! И, гонимый невыразимой брезгливостью, а, может, уж просто не в силах остановиться, он холодно сказал: – Хорошо, я прослежу, – и закрыл за собой дверь.
В ту ночь он, что называется, слег. То есть, не то чтобы буквально болел в постели, даже следующим же утром, весь в жару, изнемогая от слабости и поминутно впадая в дремоту, отправился на процесс. Но что бы ни делал, он ничего этого не понимал и не чувствовал, как будто процесс ему только снится. Заученно перемещаясь в пространстве, он сидел за рулем, подходил с микрофоном поближе, чтоб лучше слышать, выбегал из зала после объявления перерыва, курил на улице, дрожа от озноба, но все это как будто в переносной, индивидуальной коробке с ватой, как какая-то лягушонка в коробчонке, мокрая, потная, с дрожащими холодными лапками. Причем вата набивалась в уши, и сколько ни подходи ближе, он не слышал ни слова, но как-то машинально читал по лицам, по губам, по общему замешательству, и вообще как-то не помнил и не думал, как он это делает. Особенно не слышал самого себя. И в рот тоже набивалась вата: он еле шевелил языком и в кафетерии пережевывал только вату, что бы ни взял на обед. Хуже всего, от такого безвкусного курения он никак не мог удержать в памяти, что уже курил, и снова шел стоять под пронизывающим ветром, догадываясь, что, видно, курил только что, по мучительным приливам кашля, поочередно подносящего ко рту все внутренности.
Или, может, и вправду весь процесс ему только приснился? Может, он и вправду слег в самом прямом смысле слова? А жаль – процесс оказался интересный.
Ну, во-первых, он все никак не мог сосчитать присяжных – они бродили, пересаживались с места на место, загораживали друг друга, и получалось то двести двадцать один за оправдание, то двести восемьдесят против. Посыпая все вокруг пудрой, судья зачитал по бумажке присягу в старомодной, вычурной формуле: «ог топ ату, contez тоу de poinct еп poinct vostre affaire, selon la verite, car, par le corps dieu si vous en mentes d'un mot, je vous osteray la teste de dessus les epaules et vous monstreray que en justice et jugement Гоп ne doibt dire que verite». Подсудимый в каком-то халате, с шишковатым черепом, то ли фальшивомонетчик… Одним словом, в чем он обвинялся, Муравлеев не понял, хотя и вполне компетентно перевел обвинительное заключение («развращение юных умов подделкой под идеалы, изготовление коих является исключительной монополией государства»). В случаях, если законом не установлена мера наказания, – переводил Муравлеев и дальше, – присяжные ставят на голосование меру, предложенную обвинителем, против меры, предложенной осужденным.
Каждый день он входил в здание, где даже лифт являл собой аллегорию карьерного роста. Лифт приходил, к нему кидалась толпа, и лишь для того, чтобы в растерянности отпрянуть: лифт приходил на первый этаж битком набитый людьми. Требовалось несколько раундов, чтобы понять. Под первым этажом был подвальный. Чтобы попасть наверх, ехать надо было вовсе не вверх, а вниз. Этому отказывались верить. На площадку прибывал лифт, идущий вниз, и на него даже никто не смотрел, а через минуту он возвращался уже в восходящем движении, но полный до отказа. Каждое утро, стоя в толпе разинь, Муравлеев выстукивал глазами стены: ведь выход должен быть, всегда должен быть выход, альтернативный унизительной езде вниз, когда на самом деле тебе нужно вверх. Где-то здесь должна быть лестница! И где-то уже был такой лифт… Но где? Муравлеев не вспомнил.
Лестницу он не нашел, вместо чего случилось другое. В очередной раз пересчитывая присяжных… Но в эту минуту кто-то вошел в зал, и Муравлеева, машинально взглянувшего в сторону скрипнувшей двери, перестала волновать судьба подсудимого, а заволновала своя собственная. По залу, с импозантной деликатностью, не помешавшей потеснить десяток-другой зрителей, пробирался Гелиотропов. Это означало, что больной Муравлеев, который и здоровый слабо ориентировался, недооценил серьезность процесса. Усевшись, Гелиотропов метнул за барьер орлиный взгляд, вычленяя лицо за микрофоном, и, встретившись с Муравлеевым глазами, благосклонно кивнул. Сердце у Муравлеева бешено заколотилось от радости и страха. Одна часть мыслей побежала в направлении «Накось выкуси!», другая – в направлении «Караул!». Микрофон побелел в его мертвой хватке.
Сам Гелиотропов! Когда-то его прославил процесс санкюлоток. Дело это в свое время очень нашумело. Эти добрые времена воспринимались теперь как золотой век, когда переводчик мог, призывая к порядку, стучать перстнем по микрофону, и ни у кого не было сотового телефона, и самое примитивное дело о нарушении визового режима могло так вольно, кроваво выйти из берегов. Высокий, прямой старик с янтарно-желтыми глазами и вьющейся голубой сединой важно входил в зал как помесь Артемона, Мальвины, Пьеро, напоминая, впрочем, не пуделя, а двух борзых, которые жили у него дома и которых он умел выводить одной рукой, так как в другой непременно держал трость. Разумеется, эта подробность, как и многие другие картины его быта, оставалась за кулисами, придавая Гелиотропову ледяное величие айсберга. Какой контраст с разрумянившимися от напраслины, черноглазыми санкюлотками! Многие знатоки кинематографа и до сих пор утверждают, что сумасшедший успех пленки (весь процесс был отснят с первого и до последнего дня) объясняется не столько неожиданным гибридом злободневного и пикантного, сколько необычайной фотогеничностью этого случайного контраста. Девицы ездили за реку в микроавтобусе, чтобы там в стриптиз-барах работать в трусах, а Гелиотропов переводил тусклым, ровным голосом. Визу, однако, они получали как санкюлотки, плюс местные бары – где надо раздеться совсем – не стерпели утечки. Заложенные санкюлотки опровергнули предвзятое мнение о склонности лиц этой древней профессии к легкой наживе и черной неблагодарности, проявив способность к любви самоотверженной, искренней, страстной, к водителю микроавтобуса. Он их возил, собирал по домам, защищал (и физически, и интересы), ждал в микроавтобусе, сколько нужно, не бросал их в беде, был справедлив и спокоен, как танк (он, собственно, все это сам и придумал) – и этого Гену они на процессе защищали собственным телом, а Гелиотропов, дотошно переводя их слова, оставался бесстрастен, словно удав. С какой жадностью и восхищеньем смотрел и пересматривал пленку Муравлеев! Гелиотропов, конечно, был гений. Его переводы вошли в обиход, сделались классическими оборотами, вроде poker face (морда кирпичом). Материал открыл Гелиотропову небывалый простор. «Пособничать – есть ли такой глагол?» «Еще к вопросу о знаках препинания в письменных показаниях». Потом читающая публика устала. Звезда Гелиотропова закатилась.
– Молодой человек! Вы великолепно работаете! – сказал Гелиотропов в перерыве, и Муравлеев размяк с похвалы, как сухарь в теплом чае. Он буквально схватил за ворот собственную мысль, стартовавшую было в том направлении, что Гелиотропов даже не знает, как его зовут, что он скорее папаша, чем молодой человек, и – главное – что никому в зале не может быть слышно, что он бормочет в микрофон: слышно это только тем, кто в наушниках, а Гелиотропов наушников не надевал.
Машинально Муравлеев принялся пересчитывать снова присяжных, возвращающихся с перерыва. Но больше ему не считалось. Полчаса назад эти цифры, кто «за», кто «против», были вопросом жизни и смерти, но теперь невозможно было собраться, сосредоточиться, взять себя в руки, он плыл от озноба, от температуры, от кислородного голодания интенсивных социальных отношений в сравнительном небольшом помещении. – Я хотел вот тут вам предложить, – продолжал Гелиотропов, доставая папку из дивного кожаного портфеля. – Тут надо посидеть ночь, а я, знаете ли, теперь совершенно не могу работать ночами. Раньше, бывало… – он элегантно рассмеялся, так что глаза его не помягчели, а ужесточились, предупреждая не делать выводов.
Муравлеев принялся пролистывать папку, с ужасом воображая, как он, и без того еле держащийся на ногах, притащится вечером, наварит чаю и станет придумывать все эти ужасные «великолепный образчик национальной культуры» и «символ стремления к грандиозному», а поставив последнюю точку, примет душ и отправится в суд. Картина эта имела перверсивную привлекательность, и Муравлеев нерешительно глянул на Гелиотропова. Тот истолковал взгляд по-своему: – Как договоритесь, – легко, убедительно отреагировал он, – позвоните им. Я уже сказал, что сам не смогу, и порекомендовал вас.
«Значит, он рассчитывал меня здесь застать и специально привез папку?» – глупо подумал Муравлеев и машинально стал снова считать присяжных, он еще помнил, что почему-то, еще полчаса назад, это было жизненно важно, что-то от этого зависело… и поспешно прибавил то, что в таких случаях положено прибавлять: витиевато, невольно подражая манере самого Гелиотропова, заблагодарил.
Отель назывался «Гарун-аль-Рашид», он воспарил над основанием из полых перфорированных блоков, натянувшись на диагональные фермы парусиновыми стенами со слоем полиэфира на оптическом волокне и блистая на всю округу сантехникой триста семьдесят пятой пробы. Скоростные лифты (7 м/сек, или 25 км/ час) доставляли гостей на дно морское, где не рыбы, а гости сидят в аквариуме, рыбы же с той стороны подплывают смотреть, как чудовища кушают устриц. По вечерам толпа высыпала любоваться компьютеризованной хореографией больших и малых струй. …Впрочем, ему было хорошо: когда ты в секунде, не надо ни спать, ни есть, ни лежать в жару, ни думать о ерунде, часа через три Муравлеев понял, что автор проспекта тоже сочинил его за ночь. Было видно, как цинично, но трезво он мыслил, садясь за стол («со столь недалеким кочевым прошлым превратился в страну с самым высоким доходом на душу населения»), как начал спекаться к полуночи, а к утру заговариваться. К трем часам Муравлеев уверенно шел в голове колонны, так как в тексте пропали сказуемые, зато замелькали катр-энады для женщин и ма'самы общего пользования. Изо всех сил разувая глаза, Муравлеев впервые с самого детства читал столь бескорыстно, восхищаясь кессонами, ворсом ковровых покрытий, пролетом мозаик: какой изумительный разворот, столько картинок – и только три слова! В пятом часу он с безумной усмешкой вспомнил студенческую шутку – тому, кто дочитает до этого места, ставлю кружку пива. Здесь, на сорок восьмой странице, можно было поставить что угодно: мерседес, карибский круиз, Бруклинский мост или Д омский собор. Белоснежный, в зеленую крапинку, стягивал площадь, как узел, улицы скатывались в воронку, Муравлеев дал скатиться себе и вошел. В полумраке он тут же заметил, что мир здесь стоит не на китах, не на слонах и даже (что ему было ближе всего) не на черепахе. Он, пожелтевший, жилистый мраморный шар, покоился на идущих по кругу львах, и у каждого льва в ногах трепетало по лани, и каждый лев на ходу терзал свою лань, не отрываясь от основного, держать на плечах своих мир. В микрофоны собора периодически объявляли: «Don't use flesh». Тут же стояли и книги, огромные, как платяные шкафы. Нет, нельзя, потом хрен выйдешь обратно, затопчут копыта горячих коней, замучают мудрецы, захлопнут, как муху, не значащуюся в тексте. Перед ними нельзя было даже сидеть, только стоять, и страж тишины, приставленный к книгам, выполнял свое дело ответственно, зная, что, стоит кому-нибудь хлопнуть в ладоши, со страниц бросятся врассыпную многоногие черные буквы, оставив потомству только пустые строчки нотного стана.