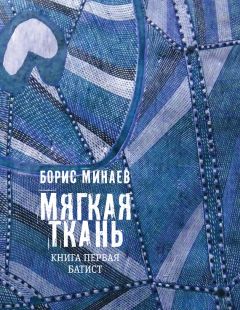Борис Минаев - Мягкая ткань. Книга 2. Сукно
И вот прошло уже больше двух лет…
Даня приехал на Казанский вокзал в шесть утра (из Марьиной рощи до Каланчевки шел удобный трамвай).
На вокзале было довольно многолюдно. Прибыли сразу два дальних, из Свердловска и Астрахани, носильщики в фартуках и фуражках торопливо волокли тележки с чемоданами, за ними едва поспевали семьи с детьми, прибывшие в Москву, и Даня рассмотрел на их лицах радостное возбуждение – скорей, скорей, – дамы покрикивали на детишек, мужчины торопливо пересчитывали купюры или монеты в бумажнике, намереваясь расплатиться с носильщиками и возчиками, они приехали в Москву надолго, может быть навсегда, устало шли командировочные c портфелями, быстро и в ногу шагали военные с вещмешками, мороженое, газеты, фрукты, летняя жизнь.
Он сел в электричку. Сердце слегка постукивало в груди, давая о себе знать. Придать себе вид мирного дачника никак не удавалось. Чемодан Надя собрала ему не маленький. Он имел двойное назначение. Если туда или если сюда.
«Не стоит ни за что цепляться, – сказал он себе. – Не стоит», – и углубился в футбольный отчет.
Подходя к Мониной даче, он вдруг окончательно понял, что за ним никого нет. Это был тот самый «инстинкт революционера», о котором когда-то так красиво говорил Миля, и проснувшийся в нем впервые, наверное, с 1919 года. Все это была ерунда, конечно, но то, что никто за ним не следил, никто его не вел, это было абсолютно точно, он мог поклясться на сталинской конституции, если надо.
Калитка скрипнула. Моня стоял на крыльце, ждал и тихо, немножко криво улыбался, зашумели, зашевелили лапами огромные сосны, защемило сердце от тоски и любви, и он шагнул вперед и обнял брата.
Надо сказать, Моня мало изменился, хотя прошло уже почти двадцать лет с того дня, как не стало их отца, Владимира Каневского. Моня вырос, первым из них переехал в Москву, устроился на работу в какой-то тихий кооператив, купил по случаю этот старый дом в Малаховке, пережил здесь закат нэпа и начало новой эры. Кругом грохотали жернова истории, а он все так же вставал утром, относил пустой бидон к калитке бабы Марьи, вечером забирал его, варил кашу, заводил будильник, слушал радиоточку, спектакли, оперы и футбольные репортажи, все подряд, гасил свет, выходил под сосны, курил, аккуратно платил по счетам за электричество каждый месяц и аккуратно покупал газеты каждое утро. Моня нашел свой путь, задумчиво говорил Миля, когда приезжал к нему в Малаховку, они вдвоем навещали брата в Малаховке, примерно раз в полгода. Моня ставил на круглый стол большой фарфоровый чайник с картинками (трактор, серп и молот, портрет Ленина и буквы «Коминтерн») и полную тарелку тульских пряников, угощение по случаю. Вообще всех этих случаев было в его жизни немного, страшный выстрел нагана, забытого Яном в прихожей, был первым, и каждый случай после этого первого менял его размеренную судьбу, хотя бы немного, даже дежурные визиты братьев: они привозили с собой колбасу, сыр, которых он никогда не ел в обычной жизни, просто не хотел, не испытывал желания, доктора говорили, что жидкий суп, несладкая каша – это единственное, что может продлить его годы, и он верил врачам. Но каждый визит милиционера, или фининспектора, или председателя садового участка, или какого-нибудь сурового партийца, который перед выборами в Верховный совет СССР обходил дачные дома по списку, напоминая о священном долге каждого гражданина, – был для него событием, случаем, как-то опять менявшим его жизнь.
После любых случаев сам воздух искривлялся в этих двух комнатах по-другому, сами вещи и предметы на этой старенькой даче меняли свое значение, он это чувствовал очень остро: как иначе подрагивает дверца в кухонном буфете, мебель была рассохшаяся от вечной влаги, мебель от прежних хозяев, куда-то срочно сбежавших от новой сияющей эры, мебель хранила эту память о другой жизни, он очень любил эту мебель, гладил часто старые неровные деревянные поверхности, но после того, как яловыми сапогами протопчут путь от крыльца до круглого стола, и мебель начинала разговаривать совсем не так. Да что же мебель, простые вещи – ложки, полотенца – и те были напуганы этим грохотом, они не сразу откликались, и кресло тревожно скрипело, замирали в окне даже сосны, даже тише стучал будильник. Товарищ, не забудьте, не забудьте, напоминал фининспектор, партиец, участковый, да что вы, как я могу забыть, ну хорошо, ну до свиданья, товарищ, ну будьте здоровы, товарищ, и он не забывал, он платил, он ходил, он голосовал, все как надо, все как обычно, но что-то менялось в его жизни, неудержимо менялось, хотя он этого и не хотел, он был против любых изменений. Моня был уверен, что наган тогда, двадцать лет назад, выстрелил в его руках сам, что он не нажимал на курок, это был очевидный, научный факт, и что если бы велось строгое следствие, научными методами, велось как надо, он бы обязательно доказал, но следствия не было, следствие отменили, и все равно судьба его теперь разломалась, он понимал это окончательно, но никого не винил и совсем не считал свою жизнь неправильной, плохой, скучной, напротив, напротив, напротив, но просто ему было жалко папу, однако кто и за что их так наказал, его и папу, Моня не знал, он каждый день старательно заново склеивал свою жизнь, склеивал наспех, непрочно, на живую нитку, временно, но каждый день, каждый день…
Вообще, когда он впервые достиг какого-то другого возраста, какой-то ключевой отметки роста, важного порога, и когда впервые осознал, как странно молчит вся семья в его присутствии, когда речь заходит о Владимире Моисеевиче, именно тогда эта идея, о таинственном выстреле, о том, что наган выстрелил сам, без его участия, как бы вышла из его головы, из его сознания, и стала жить отдельно, он увидел эту идею, очертил ее в воздухе, в мысленном пространстве, и никогда уже больше с ней не расставался, жил с ней, но тогда же он понял, что говорить о ней вслух совершенно не нужно, что это ничему не поможет, что это только собьет всех с толку, и исчезнет та правильная зона молчания вокруг этой идеи, вокруг его жизни, которая всех абсолютно устраивала, и самого Моню устраивала прежде всего.
Малаховка в те годы была не просто поселком, это был настоящий красивый город под Москвой, как Кунцево или Загорск: здесь стояли деревянный дореволюционный театр, где теперь крутили фильмы, дом культуры с библиотекой, деревянная же синагога и каменная кирха, несколько церквей, огромный рынок, с прекрасными молочными продуктами и свежим мясом, прекрасные деревянные особняки, которые не прекратили строить и после революции, теперь уже для наркомов и академиков, близость ЦАГИ, самолетного института и аэродрома подчеркивала всю важность места, черные машины только и сновали по шоссе мимо станции, по вечерам нарядно одетые дамы ходили в кинотеатр, по утрам – под кружевными зонтиками на речку и за молоком, няни волокли коляски с детьми, болтали, встретившись возле рынка, о ценах и продуктах. Отсюда начинались эти чудные сосновые леса, бесконечные, светлые и пахнущие смолой, эти прекрасные черные торфяные озера, эти милые уютные дачи, тут все было так славно, свежо, Даня отмечал это про себя каждый раз, когда приезжал в Малаховку к Моне, чтобы навестить. Единственное, что немного настораживало, это то, что здесь в Малаховке как бы отсутствовала власть, по крайней мере, так ему показалось, один постовой на весь поселок, пара милиционеров в карауле у железнодорожной станции, это в лучшем случае, любой злодей здесь мог легко скрыться, залечь на дно, уйти в тень, раствориться, исчезнуть, за каждым сараем пряталась тень вредителей и контрреволюционеров, на каждом чердаке сидел призрак, одиночество здесь было благотворно днем и страшновато ночью, но именно поэтому он и приехал сюда, к младшему брату Моне, чтобы исчезнуть, не навсегда, но на какое-то время, к больному брату, и брат обнимал его, неуклюже целовал в щеку, ведь Моня прекрасно знал, зачем он сюда, он понимал, что это серьезно, он был даже рад, что это так внезапно случилось и что теперь он будет не один, пусть какое-то время, но не один, а то, что Милю арестовали, он тоже знал, но не удивлялся, он читал газеты, каждый день читал газеты, он знал, что это неизбежно, каким-то своим странным умом, но он знал.
Рано утром Моня уходил на работу. На столе, на нагревшейся от солнца клеенке он оставлял завтрак – обычно это была сухая, немного передержанная гречневая каша и вчерашнее молоко в холодном стакане. Даня выливал молоко в еще теплую кашу, ставил чайник на плиту и медленно, подробно жевал гречку с молоком и с сахаром, пока чайник начинал тихо шуметь, потом гудеть, а потом свистеть. Он тихо включал радио и медленно-медленно, не пропуская ни одного слова, читал оставленные Моней вчерашние газеты. Брюссельский конкурс доказал не только превосходство советской музыкальной культуры, но и превосходство советских методов воспитания молодежи. Дальнейшее увеличение потолка современных самолетов задерживается из-за отсутствия специальных скафандров для летчиков. Несмотря на настояния матери и врачей, Павлова отказалась указать лицо, производившее аборт, и так и умерла, унеся с собой эту тайну.