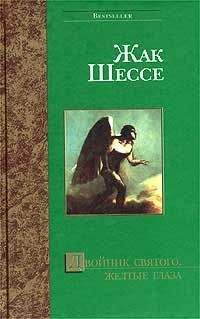Николай Агафонов - Повести и рассказы
Я поднялся с земли, и мы пошли дальше. Я шел в полной уверенности, что молитва Гришки спасла мне жизнь. Только вот что означает «Гришку возьми, а Леху оставь», я не мог сообразить.
К селу Образово подошли уже к вечеру третьего дня пути. Я видел, как вся семья отца Михаила искренне радуется Гришкиному приходу. Меня они тоже встретили с радушием и любовью. Поужинали картошкой в мундире с солеными огурцами и помидорами. Гришка с нами за стол не сел, а взяв только две картофелины, ушел.
– Он никогда с нами за стол не садится, – пояснил мне отец Михаил после его ухода, – сколько его ни уговаривал, у него один ответ: «За стол легко садиться, да трудно вставать, а я трудностей ой как боюсь».
Уложили меня спать в небольшой комнате на постель с целой горой мягких пуховых подушек. Утром я проснулся, когда солнце уже взошло высоко. Матушка предложила чаю. Когда я спросил, где отец Михаил, она сказала:
– Да вы садитесь, его не ждите, он никогда не завтракает. Сейчас ушел в сарай – клетки для кроликов мастерить.
– А где Гришка ночевал? – спросил я.
– Он всегда на чердаке ночует, в своем гробу спит.
– Как это – в гробу? – удивился я.
– Да, видать, вычитал, что некоторые подвижники в гробах спали, чтобы постоянно помнить о своем смертном часе и быть к нему готовыми, вот сам выстругал себе гроб и спит в нем.
Вечером мы все пошли на всенощное бдение в честь праздника Казанской иконы Божией Матери. Я помогал матушке петь на клиросе, а Гришка стоял недалеко от входа в храм по стойке «смирно», лишь изредка осеняя себя крестным знамением. Делал он это очень медленно: приставит три пальца ко лбу и держит, что-то шепча про себя, потом – к животу в районе пупка и опять держит и шепчет, затем таким же образом на правое плечо и левое. Когда запели «Ныне отпущаеши»[173], он встал на колени. На следующий день за Божественной литургией Гришка причастился. Когда после службы пришли домой, Гришка сел вместе с нами за стол, чему были немало удивлены и обрадованы отец Михаил с матушкой. Правда, ничего он есть не стал, кроме просфорки, и попил водички из источника. Гришка сидел за столом, радостно глядел на нас и улыбался:
– А у меня сегодня день рождения, – вдруг неожиданно заявил он.
Отец Михаил с матушкой растерянно переглянулись.
– У тебя же день рождения в январе, – робко заметил отец Михаил.
– Ну да, – согласился Гришка, – появился на свет я в январе, а сегодня у меня будет настоящий день рождения.
Все мы заулыбались и стали поздравлять Григория, поддерживая шутку, за которой, мы не сомневались, скрывается какой-то смысл.
– Ну я пойду полежу перед дальней дорогой, – сказал Гришка после обеда.
– Куда же ты, Гриша, уходишь? – спросил отец Михаил.
– Эх, Мишка, хороший ты человек, да уж больно любопытный. Ничего тебе не скажу, сам скоро узнаешь, куда я ушел.
Отца Михаила ответ вполне удовлетворил:
– Ну что ж, иди, Гриша, куда хочешь, только возвращайся, мы тебя ждать будем.
– Я тоже буду вас ждать, – сказал Гришка и ушел к себе на чердак.
До вечера он с чердака так и не явился. Но когда Гришка не пришел на следующий день, отец Михаил забеспокоился и решил проведать Григория. С чердака он спустился весь бледный и взволнованный:
– Ушел Гришка от нас навсегда, – сказал он упавшим голосом.
– С чего ты решил, что он навсегда ушел? – вопросила матушка. – Он что, записку оставил?
– Нет, матушка, он здесь свое тело оставил, а душа ушла в вечныя селения, – и отец Михаил широко перекрестился. – Царство ему Небесное и во блаженном успении вечный покой[174].
Гроб с его телом мы спустили с чердака и перенесли в храм.
Отец Михаил отслужил панихиду. На завтра наметили отпевание и погребение. А ночью решили попеременно читать Псалтырь над гробом.
Вечером с отцом Михаилом мы сидели у гроба Григория, а матушка готовила поминки дома. Григорий лежал в гробу в своем стареньком двубортном пиджаке на голое тело и в заплатанных коротких брюках, из которых торчали босые ноги. Перед тем как нести Григория в церковь, я предлагал отцу Михаилу переодеть его.
– Что ты, – замахал тот руками, – он мне сам наказывал, как помрет, чтобы его не переодевали: «Это, – говорит, – мои ризы драгоценные, в костюме я буду походить на покойника Григория Александровича». А ведь, думаю, он знал о своей смерти, когда говорил за обедом, что пойдет далеко.
– Он знал об этом, еще когда к вам шел, это ведь он за меня умер. У меня сердце в дороге прихватило, а он молился: «Возьми лучше Гришку, а Лешку оставь». Я тогда не понял, о чем он просит.
– Вот оно, какое дерзновение имеют блаженные люди, – вздохнул отец Михаил, – а мы, грешные, все суетимся, все чего-то нам надо. А человеку на самом деле мало чего надо на этом свете.
Первым остался читать Псалтырь я. Когда стал произносить кафизмы, то почувствовал необыкновенную легкость. Голос мой радостно и звонко раздавался в храме. Ощущения смерти вовсе не было. Я чувствовал, что Гришка стоит рядом со мной и молится, широко и неторопливо осеняя себя крестным знамением. Мне вдруг припомнилось, как увидел Гришку в первый раз, читающего на ходу книгу. Эти воспоминания ворвались в мою душу, когда я читал девяностый псалом: «На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою»[175], – это был двенадцатый стих.
Февраль 2002. Волгоград
Ноябрь 2003. Самара
Чаю воскресения мертвых[176]
Истинным украшением нашего прихода были несколько стариков прихожан. Ходили они на службу регулярно, по воскресным дням и праздникам. Цену себе знали: мол, нас таких мало. Все старички были опрятные и статные: грудь колесом, борода лопатой. Настоящая порода русских мужиков, не добитая революциями, коллективизацией и войнами. Своей степенностью, важным внешним видом и благопристойностью поведения они как бы бросали вызов расхристанной современности, порождая ностальгические чувства о потерянном великом прошлом.
Но был среди этой группы один старичок, резко выделявшийся среди остальных своим неказистым видом. Он был как опенок среди боровиков и подосиновиков. Худенький, маленький, с кривыми ножками, да и сам весь какой-то кривой. В лице его было что-то нерусское. Личико маленькое, сморщенное, с узкими глазами, как две щелки. Бороденка жиденькая, словно ее выщипали. Голос какой-то хрипловато-писклявый. Ну, словом, живая карикатура на своих собратьев-прихожан. Но, несмотря на этот, прямо скажем, непрезентабельный внешний вид, среди прихожан и духовенства он пользовался неизменным уважением и любовью. И то и другое он заслужил своей бескорыстной добротой и постоянной готовностью помочь ближним всем чем только мог. При этом помогал он всем без различия: и настоятелю, и безродной старушке. Любая работа была ему по плечу. Про таких говорят: мастер на все руки. Он и плотничал, и сапожничал, и кирпич клал, и в электрике разбирался. Трудиться мог с утра и до вечера, казалось, не уставая, а ведь ему было уже за семьдесят. Во время службы он неизменно стоял в правом Никольском приделе[177] и истово молился, старательно клал земные поклоны. Звали его Николаем Ивановичем Луговым.
Как-то раз и мне пришлось пригласить Николая Ивановича к себе домой на помощь, чтобы посмотреть нашу печь, которая ни с того ни с сего начала дымить. Он походил вокруг нее, постучал, послушал, как врач больного, затем вынул один кирпич и залез туда рукой, которая сразу оказалась по локоть в саже. Потом сердито сказал:
– Кто такие печи кладет, руки бы тому поотшибать.
– Не знаю, – говорю я, – мы покупали дом вместе с печкой.
Николай Иванович улыбнулся:
– А вам, Ляксей Палыч, этого знать не надо. Вы мастер по церковному пению. Когда вы хором церковным управляете, любо-дорого послушать.
– Спасибо за высокую оценку моего скромного труда, – сказал я, польщенный похвалой.
– Это вам спасибо, Ляксей Палыч, за ваше умилительное пение. Когда ваш хор поет, от такого пения душа утешается и молитва делается легкая, словно птица небесная порхает под небесами у Бога. Говорю так вам потому, что есть с чем сравнивать. Давеча я ездил в наш областной центр и зашел в архиерейский собор службу послушать. Уж лучше бы я не заходил.
– А что такое? – заинтересовался я.
– Да пение у них какое-то странное. Как после «Отче наш» врата Царские закрылись, тут хор ихний как взвоет, я аж вздрогнул.
– Это они, наверное, концерт запричастный[178]запели, – догадался я.
– Вот, вот, Ляксей Палыч, именно концерт, а не молитва. Потому что, когда хор взвыл, тут у них какая-то баба заголосила, а потом мужик стал ей что-то подвывать. Не выдержал я такого концерта да убег из храма. А у вас, Ляксей Палыч, все просто и понятно. А насчет печки я вам вот что скажу. Переделывать за другими – это работа неблагодарная. Предлагаю эту печь сломать, а другую сделать. День будем ломать, день печь класть.
Я от души посмеялся над рассказом об архиерейском хоре, и мы расстались с Николаем Ивановичем, договорившись встретиться завтра. В этот же день я съездил за глиной, песком и кирпичом. А на следующий день пришел Николай Иванович с двумя своими сыновьями. Я было хотел помогать им печь разбирать, но Николай Иванович решительно воспротивился: