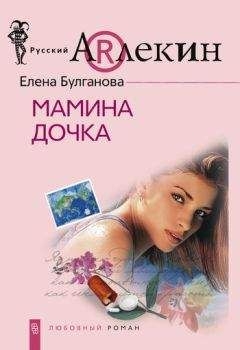Наталия Терентьева - Маримба!
– А как она сломала калитку? – вдруг решил уточнить Данилевский.
– Пассатижами! Замок раскурочила!
– Давай поймаем ее и устроим темную? – предложил мой бывший муж.
– Пап, ты серьезно? – удивилась Катька.
– Нет, конечно. У твоей мамы оружие какое? Пулемет?
– Нет, – засмеялась Катька. – У нас только фамильное ружье есть, прадедушкино, на даче, но оно не стреляет. То есть… Мы смотрели, непонятно, какие патроны туда надо… И где их взять…
Данилевский фыркнул:
– Ну вы даете…
– Да, пап, да! А как нам себя охранять на даче? У нас, извини, военизированной охраны по периметру нет.
– Ладно… – Данилевский посмотрел на меня тяжелым взглядом, но говорить ничего не стал.
– И еще кортик у нас есть, пап, именной, другого прадедушки… Холодное оружие. Он здесь, дома, у мамы в шкафу спрятан. Показать?
– Покажи, – кивнул Данилевский. – Как у вас все, у дворянок, – именное, фамильное… М-м-м…. Мне бы так! Только на самом деле оружие у твоей мамы другое. И она его против меня столько раз применяла… Что, мама, молчишь? Я тут почитал кое-что…
– Это не про тебя, – вздохнула я. – Это собирательный образ.
– Вот и собери такой образ про Горохову.
– Ладно, – согласилась я. – Соберу. Горохова летом, весной и осенью. И долгой зимой, в пяти шубах…
– Не завидуй, – попенял мне Данилевский. – У тебя тоже шуба ничего. Пожелтела – а ты ее на зиму синькой засыпь. Будет как новая.
– Хорошо, – кивнула я. – Засыплю. Горохову нейтрализую и займусь шубой.
– Вот! И главное, юморка побольше. Если что – звони мне, подскажу что-нибудь.
– Непременно. – Мы переглянулись с Катькой и фыркнули.
– Что вы? Что? Кать, все шутки твоей мамы – от меня. Это я ее шутить научил. Поняла? А ты, мама, главное, так фамилию зашифруй, – продолжал как ни в чем не бывало поучать меня Данилевский, – чтобы и понятно было, кто это, и комар носу не подточит, если что.
– Пап, а какой ты роман мамин прочитал? – спросила Катька.
– Я? Мамин роман? И не думал даже!
– Кать… – я остановила Катьку, собиравшуюся броситься в мою защиту. – Папа читает только серьезную литературу. Ты же знаешь. Достоевского там… Хемингуэя, Толстого…
– Да, – кивнул Данилевский. – И современные тоже есть некоторые авторы, я уже говорил, кажется… Помнишь, Кать? Но только мужчины, я бы женщинам вообще не разрешал письменно высказываться. Сказала – слово воробьем полетело, вот и хорошо. Чирик-чирик… А в магазине продавать этот чирик не нужно. Людям голову дурить…
Катька с сомнением покосилась на меня, я легко отмахнулась и засмеялась.
– Кать, папа шутит. Смешно, Егор.
Данилевский недовольно засопел.
– Пап… – начала было Катька.
– Друзья, – я приобняла Катьку и как можно дружелюбнее улыбнулась ее папе, – не будем в очередной раз пускаться в сомнительные споры насчет гендерной исключительности литературного жанра и ценности моих собственных опусов в особенности.
– Чирик-чирик! – ответил Данилевский.
– Папа, вы сейчас на каком языке разговариваете? – хмыкнула Катька.
– Всё-всё-всё, о литературе не будем, пожалуйста! – Я покрепче сжала Катькино плечико.
Я ведь действительно не знаю, что читал Данилевский из моих книг, на что обиделся, что не заметил, где смеялся, где задумывался…
– Ты никогда не бываешь за маму! – вдруг серьезно заявила Катька, освобождаясь от моих объятий. – Никогда!
– Катюня… – попыталась урезонить я Катьку.
– Нет, нет, пусть говорит, – ухмыльнулся Данилевский. – Очень интересно. Ну, продолжай… Гордая, самостоятельная девочка, выступает от своего лица… Ну-ну, давай-давай! Я не бываю за маму, а мама – права, мама – хорошая, да?
– Ну да, – растерянно пожала плечами Катька.
И правда, Данилевский никогда не бывает за меня. Даже в абсурдной ситуации с Гороховой. Даже когда меня обманывают, обкрадывают, когда я сталкиваюсь с чьим-то хамством, грубостью, подлостью. У Егора виновата всегда я.
Мы посмотрели с Данилевским друг на друга. Мы оба знаем ответ. Я любила его гораздо больше, дольше, глубже. Он бы забыл о моем существовании, если бы не веселая, талантливая, красивая девочка по имени Катя, похожая на него и на меня. Больше – на него, немножко даже на его маму в молодости. Только мама была хрупкой, маленькой и решительной, а Катька – высокая, яркая, фигуристая, белокожая, как мои мама с бабушкой, и – светлая, побеждающая своим теплом, улыбкой, шквальным позитивом. И ему приходится мириться с моими словами, упреками, дружбой, с тем, что время от времени я говорю: «А помнишь, как мы ездили на море… как я выбирала эти сережки два часа… как ты не пришел в роддом…»
– Мама… в данном случае… права… – с неохотой проговорил Данилевский. – Хочешь, я куплю тебе новое платье, Катюня?
– Нет, – равнодушно пожала плечами Катька. – У меня полно платьев. И я ношу брюки.
– А новый телефон?
– У меня нормальный телефон, пап. Хороший. Работает.
– Ну, а что тебе подарить?
Катька похлопала ресницами, развела руками. И правда. Что ей может подарить Данилевский, такое, от чего бы засияли глаза, она захлопала бы в ладоши?
– Билет во Францию, – подсказала я.
– Мам! Помолчи! Дай ребенку себя проявить! Это ты хочешь во Францию, а ребенок хочет новый телефон, да, ребенок?
Сильно-сильно повзрослевшая за последний год Катька лишь вздохнула:
– К Гороховой подойди и скажи, чтобы она о маме в подъезде ерунду всякую не говорила. А то ты ей голову оторвешь. Она думает, что ты очень богатый и могущественный. Видела твою машину, чуть с ума не сошла. Бегала потом по двору, как заведенная: «Ну от, ну от…»
– Грех над людьми смеяться! – одернул Данилевский Катьку.
– Что мне, плакать, что ли, над ней? – Катька тряхнула головой.
– Хорошо, – неохотно кивнул Данилевский. – Заметано. Значит, пойти к ней, сказать – что я ей голову оторву и… там, как положено… вместо ног приделаю…
– Прямо сейчас пойдешь? – уточнила Катька.
– Куда? – удивился Данилевский.
– Пугать Горохову.
– А… гм… она одна живет?
– Нет, – пояснила Катька, – у нее есть спаниель, очень вонючий и глупый. Зовут Пупка. И муж, маленький, старенький и вредный дядька. Зовут Ванька. Он учитель физики в соседней школе. Его дети называют Вака-Вака. Потому что он икает часто на уроках. А он их ненавидит, зимой окна настежь распахивает, а когда душно – не разрешает ни щелочки открыть. И на уроках ест сало с чесноком. И перхоть себе вычесывает.
Я удивленно взглянула на Катьку. Детское сарафанное радио. Я даже не слышала ничего такого.
– Да ВКонтакте ребята пишут, мам! Там группа у нас есть – «Мои придурастые училки». Я подписана.
– Про взрослых так оголтело не высказывайся, дочь моя! – серьезно произнес Данилевский. – Взрослых надо уважать. Ну, говорите, какой номер квартиры.
– Ты что, и правда к Гороховой пойдешь? – не поверила я.
– Меня дочь попросила! – ответил мне Данилевский.
– Я с тобой, пап!
– Да нет уж, я сам…
Данилевский, уточнив этаж и номер квартиры, ушел. Вернулся через пятнадцать минут. Вполне мирный, довольный.
– Все, целуй, – подставил он Катьке плохо выбритую щеку. Суббота – щеки отдыхают от бритья. – Хорошая тетка, правильная.
– Кто? – все же спросила я.
– Да Мария Петровна, кто! Все поняла. Все мне рассказала…
– Пап… – Катька отстранилась от Данилевского. – Ты что, подружился с Гороховой?
– Все хорошо, заяц! – Егор потрепал Катьку по щеке. – Вот увидишь! Я же не ссориться с ней ходил!
– Ты вообще-то хотел ей голову оторвать.
– Ну вот, оторвал и на правильное место приделал. Просто у нее голова не оттуда росла. В этом была вся причина.
Я с подозрением взглянула на Данилевского, но ничего не сказала.
Через пару дней мы встретили Горохову на улице около подъезда. Та посмотрела на меня, вздернула голову, усмехнулась и… отвернулась. Соседи постепенно стали снова со мной через одного здороваться. Видно, ничего плохого старшая по подъезду про меня больше не говорила. Одним хватило того, что они узнали от Марии Петровны, и менять свое отношение ко мне они уже не хотели. Другие увидели, как Горохова выкидывала вещи новой консьержки, которая, вместо того чтобы встать и поздороваться со старшей по подъезду, лишь приветливо кивнула. И через минуту уже собирала свои вещи на улице. Кто-то видел, как с общего балкона девятнадцатого этажа летела кошка. Рыжая, пушистая… Упала неудачно. Кошки вообще-то выживают, эта не выжила. Действительно ли ее сбросила Горохова, никто не знает – кошка жила на этаже Марии Петровны и, по ее словам, разодрала несчастной руку и выцарапала глаза ее Пенелопе – не до конца, но… Деревня наша, как положено, слухами полнится, слухами живет, им же радуется, ими же время от времени взрывается.
Видя, как Горохова вплывает в дом, мы с Катькой придерживаем шаг или идем в другую дверь, со двора.
В каждой деревне должен быть свой гармонист, свой поэт, свой дурачок…