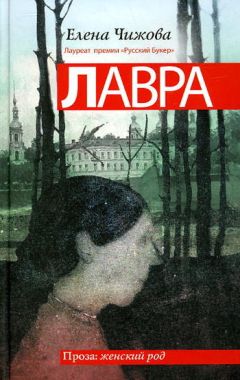Елена Чижова - Планета грибов
Сбрасывает одеяло, садится: «Сон. Это просто сон?..» Ночной кошмар, из которого ничего не стоит вынырнуть: просто выйти на крыльцо, вдохнуть тихий мирный воздух… Сует ноги в тапки, но в то же мгновение сбрасывает, едва не вскрикнув: ай! Мокрые тапки отняли последнюю надежду. Окончательно разлепив глаза, двинулся босиком, прилипая к полу.
Уже в дверях обернулся, оглядывая родительскую комнату. Только теперь почувствовал, осознал свою наготу. «Здесь, на их кровати… О, господи…»
Кинулся к себе, распахнув платяной шкаф, нащупал чистую рубашку, трусы, брюки. Так и не обнаружив свежих носков, обулся на босу ногу. «О чем я думаю, когда… когда?..»
Картина, открывшаяся его глазам, превосходит самые страшные ожидания. Вековые ели, еще вчера стоявшие за времянкой, привалились к дому, обхватив его густыми лапами. Прижимаясь к стене, он спускается с крыльца. То и дело ныряя под ветки, движется в направлении ванной, считая стволы. Их вершины лежат на крыше. Крайний ряд шифера щербится, будто его выгрызли. Добравшись наконец до угла, смотрит вниз. Там, где раньше были террасы, на которых росли кусты и яблоневые деревья, зеленеет хвойное месиво: ели и сосны, сцепившиеся ветками. Лес, сошедший с места, разрушил родительский рай – пространство, обихоженное их руками.
Поворачивает голову, обозревая чужой участок, лежащий по ту сторону ручья. Раньше его закрывали ели, теперь – всё как на ладони. Ласковое солнце обливает нетронутые кусты, траву, деревья, ровные террасы, засаженные цветами. Никаких следов разрушений – только тихий нежный свет. До их забора метров пятьдесят, но даже против света он ясно видит блики на синей пожарной бочке, пятна на их машине, похожие на подпалины. Кажется, будто там – другой мир. Граница идет по ручью. Собирая остатки разума, он мотает головой: этого не может быть. Но вот же оно, прямо перед глазами: рукотворный рай нижних соседей цел и невредим.
Ныряя под ветки, он плывет обратно. Огромная ель – верхушка лежит на крыше, комель наполовину вывернут – навалилась на времянку с тыльной стороны. Оглядев упавший забор – повредило штакетник и поперечины, но столбы стоят, – он подходит к времянке. Дверную коробку перекосило под тяжестью ствола. Эту дверь больше не закрыть. Но это не он, он ничего не трогал – не двигал штыри.
Он идет к скамейке – медленно, на ватных ногах. «За что?! Почему – меня?» – в глубине души он знает: запустил, не красил, не заботился, не обрабатывал. Даже замо́к – и тот не починил вовремя.
Посуда, расставленная на камне, белеет, как ни в чем не бывало. Если не считать чашки, расколовшейся на две половинки. Ее разбила женщина. «Она. Это всё – она…»
Он прислушивается, надеясь, что они встанут на его сторону, поймут: их сын не виноват. Виновата она, женщина, с которой он разговаривал как с матерью, а потом…
«Нет-нет, – торопится оправдаться, – как с матерью – это сначала. Потом-то уже нет».
Родители молчат. Он сидит, повесив голову: после того, что натворил, их отклик был бы чудом, но в глубине души он все-таки надеется. Пусть хотя бы отец: откликнется, придет на помощь.
Взгляд ловит острые обломки сосен: там, за забором… Как же он мог забыть! «Да, катастрофа. Но не только моя». Здесь, на территории рая, созданного родителями, ответственность на нем, но там, за участком – совсем другое дело. Он чувствует прилив бодрости. Учитывая масштаб разрушений, случилось именно то, что показывают по телевизору, когда на помощь пострадавшим приходят все, включая…
Мотнул головой, будто отогнал слепня: тут уж, бесспорно, хватил! Но должно же быть местное начальство, отцы района.
Откуда-то издалека доносится вой пилы. Он вскакивает, бежит к калитке. Наверняка уже приехали. Надо остановить, сказать: вот – я, пострадавший… Мне нужна ваша помощь…
На улице никого. Только ее машина. Он чувствует холод, бегущий по позвоночнику. Холод, от которого бросает в жар. Поворачивает назад, бредет к калитке. Перед глазами путаница ветвей: тропинка, ведущая к ручью, завалена кронами – их сорвало с сосен, чьи обломки пронзают небо. Хвойное месиво, ветки, которыми все завалено. Чтобы двинуться дальше, он должен вступить – в это, колючее и шипастое. Он вздрагивает, будто иглы уже вонзились в щиколотки. По сравнению с этим сломанный замок – хвоинка, попавшая в ботинок, колющая голую пятку: всего-то и дел, что снять и вытрясти. Но даже на это нет сил. Изнеможение, полное.
Чашки и тарелки толпятся, облепляя камень. Казалось бы, самое хрупкое, что только можно себе представить, но вот же они. То, что именно их обошла стихия, красноречивее любых слов изобличает ее капризный норов, женственную природу – бессмысленную: что хочу, то и ворочу.
В свете наступающего утра чашки и тарелки кажутся бледными, как поганки. Впрочем, он поправляет себя, настоящие поганки – коричневатые, покрытые желтыми дрыздочками. Он помнит тот заросший пень.
Подняв глаза, оглядывает пустое небо. Молчат. Так пусть хотя бы послушают. Он готов признать: да, виноват. Действовал необдуманно и опрометчиво. Ошибся. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Разве это не их слова? Он знает, о чем они думают: поддался, пошел у нее на поводу. «А позвольте поинтересоваться: по-че-му?» Уж если на то пошло, он даст исчерпывающие объяснения, лишь бы они поняли, подсказали, пришли на помощь. Один он все равно не справится. Кому как не им знать.
Он оглядывает ветки, усыпанные шишками – терпкими плодами ели. Во все времена рождались сыновья, идущие против отцов. Родись Марлен в девятнадцатом веке, наверняка стал бы нигилистом, каким-нибудь Базаровым. Тоже мечтали разрушить. Потому что в глубине души верили: сколько ни разрушай – не рухнет. Наоборот. Жизнь разумна, надо только разгрести, отринуть старые предрассудки, нажитые поколениями, взглянуть свежим глазом.
– Да, разговаривал как с матерью, – он слышит свой крепнущий голос. – Но что же делать, если здесь, у нас, все давно перепуталось, выбилось из суставов: отцы – не отцы, матери – не матери…
Он замолкает, отводит глаза. Для них – пустые рассуждения.
Там, в родительской кровати: конечно, не мать. Только голос. И руки, нежные, – будто материнские. До сегодняшней ночи не оставлял своих родителей, не прилеплялся к жене. Не говоря уже о женщине, с которой встречался время от времени, но так и не стал единой плотью. Не мог обнажить своего сердца – не знал наготы. Это трудно объяснить, тем более понять, но пусть хотя бы попытаются: вчера, когда она заговорила с ним как с сыном, вдруг показалось, еще не все потеряно… —
* * *Домашний телефон занят. Мобильник домработницы тоже. Она нажимает на кнопки – наугад, лишь бы кто-нибудь откликнулся. Короткие гудки. Перегрузка на линии? Или повредило станцию? Если б знать, что не завалило дорогу, уехала бы немедленно. «А, черт! Документы. Наверняка еще не проснулся, лежит под одеялом…» – мысль о чужом теле кажется невыносимой: дома легла бы в ванну, с головой, в горячую воду – все что угодно, только смыть. Здесь, где нет элементарных удобств… Еще вчера можно было нагреть на плитке – но сегодня, когда электричество отрублено…
Ночью разговаривала с ним как с сыном. Она ходит по комнате, прислушиваясь к обрывкам сна. Сказал: рано или поздно эти книги сгорят. У нее нет привычки полагаться на время – только на себя. Тем более работы на полчаса, максимум на час. Нужен пустой мешок или хотя бы наволочка. Она направляется к кровати: «Плевать, больше не понадобится», – торопливо расстегивает пуговицы. Снимает, разоблачая подушку, покрытую застарелыми пятнами. Зажав наволочку в пальцах, идет к стеллажу.
Влезает на стул. Снимая книгу за книгой, открывает на титульных страницах. В сущности, механическая работа: открыть, вырвать, пихнуть в наволочку. Но когда стоишь на колченогом стуле, даже это требует ловкости. Думает: счастье, что не уехала вчера. Чем черт не шутит, а вдруг новые хозяева окажутся библиофилами: оставят себе или сдадут в библиотеку… Верхняя полка обработана. Сунув руку в наволочку, она приминает вырванные листы. Сквозь ветхую ткань просвечивают слова, написанные выцветшими чернилами. Четыре черненьких чумазеньких чертенка следят из каждого угла.
Где-то, может быть, на соседней улице, воет бензопила. Она торопится, будто счет идет на минуты. На самом деле у нее уйма времени: покончить с книгами, потом сходить на разведку, поглядеть своими глазами. Может, все не так страшно, как представлялось ночью…
Колченогий стул качается, ходит под ногами. Она косится на наволочку, в которой шевелятся проклятые страницы – улики с дарственными надписями. Пока они не сгорели, ее легко уличить, бросить ей в лицо: ты – дочь, крапивное семя. Но в отсутствие улик одно не вытекает из другого: ее сын – НЕ ВНУК ПАЛАЧА. Это останется на ее совести. Придерживаясь рукой за полки, она слезает со стула. Можно перевести дух. Еще минут пятнадцать, и опасность останется позади.