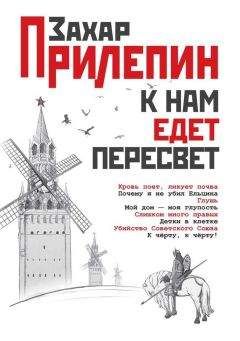Алиса Ганиева - 14. Женская проза «нулевых»
Из подземных глубин метро лился властный, счастливый, знакомый голос – да так громко, что отдавало болью в ушах. Упоенно и четко этот голос скандировал:
– Ура – граждане!
– Вперед – граждане!
– Нарушающие – спокойствие!
– Занимающиеся – попрошайничеством!
– Способствующие – уничтожению!
– Без определенного – жительства!
– Жительства!
– Жительства!
– Живые!
– Живые!
– Живые!
– Живые!
Так началась Революция.
Против кого она была направлена, для меня осталось загадкой. Вроде бы они зачем-то хотели расправиться с роботами. Называли себя «живыми» – и шли истреблять «неживых». Но ведь – не только их. Они истребляли всех. Сначала тех, кто остался наверху – кто не присоединился к ним. А потом и друг друга.
* * *Мы вместе уже третий день.
Рано утром срабатывает будильник. В полвосьмого утра. Сквозь сон я слышу, как он встает и, зевая, плетется на кухню. Мне так страшно хочется спать, что я не сразу понимаю, в чём дело.
Через пять минут он приходит обратно. И говорит:
– Вставай, солнышко, а то опоздаешь.
– Куда? – спрашиваю всё еще в полусне.
– На работу. Сегодня вторник. Тебе сегодня к девяти тридцати.
Я открываю глаза. Он стоит, поеживаясь, рядом с кроватью, в своей длинной домашней футболке с надписью New York City. Голые волосатые ноги беспомощно переминаются на полу. Он улыбается мне – сонной, замученной улыбкой. Ласково. У него в руках чашка кофе – подрагивает на блюдце, в кофейно-сливочной лужице.
Он говорит:
– Я принес тебе кофе.
Кофе. Я знаю, кофе – со сливками и корицей; немного слаще, чем я люблю; гораздо холоднее, чем я люблю (сливки из холодильника), – как раньше.
Как раньше, до Революции. Когда я работала спецкорреспондентом в журнале и каждый вторник должна была появляться на редколлегии в девять тридцать (в остальные дни – когда угодно). Для этого мне нужно было выйти в восемь тридцать. А встать в семь тридцать – чего сделать без посторонней помощи (без его помощи) я практически не могла. Я сова. Для меня всё, что раньше одиннадцати, – это ужасно рано.
Каждый вторник он ставил будильник, вставал (хотя сам никуда не спешил), шел на кухню, варил кофе, выманивал меня из постели. Потом я приезжала в редакцию и полтора-два часа слушала их болтовню. Тогда они меня раздражали…
– Обсудим обложку (главный редактор). – О, отличная обложка! Как все-таки хорошо, что у нас теперь новый дизайн! (все) – По содержанию есть вопросы? – Да, тут вот в двух местах страницы перепутаны. – Лена, как получилось, что страницы перепутаны? – Ну, там всё было совершенно нормально, но слетело уже на верстке… – Это надо прекратить! Что такое, в каждом номере ошибки! Что мы как дети, ей-богу? По новостям есть замечания? – Хорошие новости. – Только тут странный график, на странице восемь… Посмотрите, по вертикали условные единицы, по горизонтали вообще не написано что, но это что-то явно уменьшается прямо пропорционально… Нельзя же так издеваться над читателем… – Лена, почему по горизонтали не подписано? – Просто девочки, которые рисуют графики, не понимают их смысл. – Так найдите таких, которые понимают! – Просто за такую зарплату понимать никто не хочет… – Ладно, дальше поехали. Пикников написал колонку. – О! О! (Тучный торжественный Пикников с окладистой бородкой и огромным лбом мудреца – держатель контрольного пакета акций журнала, заместитель главного редактора журнала, финансовый директор журнала, творческий редактор журанала – писал в журнал колонки еженедельно, но неистовым похвалам коллег каждый раз радовался, как дитя.) – Бабухина написала заметку… – Невнятная… – Зачем мы вообще об этом стали писать? – Бабухина в этом не разбирается! – Бабухина еще молодая… – Так, текст Митяевой… про рынки быстрорастворимых супчиков… – Очень правильный текст! – А меня не возбуждает! – Ладно тебе, Петтер! Мы одобряем Митяеву. Дальше… отдел культуры… на этом месте я как раз заснул…
Тогда они меня раздражали. Сейчас я хотела бы их увидеть. Посидеть с ними вместе за большим дубовым столом. В черных, безвкусных кожаных креслах. В вонючей прокуренной комнатке с шумно вздыхающим кондиционером. Ранним-ранним утром.
Но никого из них теперь нет. Нет большелобого Пикникова, невнятной Бабухиной, не вполне возбужденного Петтера… Нет этой вонючей комнатки. И нет серого здания, в котором была эта комнатка, и узкой, неудобной, захламленной улицы Правды, на которой стояло здание… Нет даже рынка быстрорастворимых супчиков…
Он ставит кофе рядом со мной на кровати. Я говорю спасибо и делаю первый глоток. Я думаю, как объяснить ему, что мне никуда не нужно идти. Медленно, молча пью. Через несколько минут кофе окончательно остывает. Я отодвигаю от себя недопитую чашку (там еще больше половины).
– Не понравилось? – удивленно спрашивает он отвергнутую мною чашку. Большой палец правой ноги с маленьким островком черных курчавых волос грустно почесывает щиколотку левой.
– Очень понравилось.
Я хватаю чашку и залпом допиваю холодную коричневую бурду; чувствую на языке и в горле жесткие непроваренные ошметки кофейных зерен.
– Спасибо, что разбудил, – говорю бодрым голосом.
Быстро одеваюсь и выхожу в пустую Москву.
Это тоже неучтенный нюанс. Сколько еще их будет, нюансов?
Я сделала его таким. Я хотела, чтоб всё было, как было. Голос, походка, жесты. Вкусы, увлечения, воспоминания. Привычки, слова, реакции… Даже зрение минус пять и плохая координация движений. Даже крошки вокруг его стула на кухне. Даже это дурацкое пошлое «солнышко» – так он меня называл. Всё, всё… Я изменила только одно. Там, на фабрике. Я сказала: пусть он будет дома. Пусть выходит совсем редко и не отходит далеко. Чтобы не видел этой уродливой городской пустоты. Чтобы всегда был со мной. Чтобы всегда возвращался. Чтобы не повторилось.
Чтобы не повторилось.
Я сажусь в машину (подобранный мной полгода назад бесхозный “Golf” – почти такой же, как был у меня) и выезжаю на Садовое. Скелеты убитых машин давно уже убрали отсюда. Еду по кольцу. Дорога совершенно свободна; кроме меня, ни одной машины здесь нет. Включаю чужую магнитоллу, и она начинает лениво пережевывать чужую старую музыку. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine…
Делаю с десяток неторопливых кругов и возвращаюсь домой.
Он встречает меня в коридоре:
– Привет, солнышко.
* * *Меня знобит. Меня просто трясет. Тщательно подбирая слова, стараясь (безуспешно) говорить всё это не так, как говорили в «Солярисе», «Искусственном интеллекте», «Блейдранере» и бог знает где еще, сбивчиво сообщаю ему всю правду. Потому что больше я так не могу.
Я говорю: ты не настоящий.
Я говорю: из нас двоих только я осталась в живых.
– Что за чушь? – фыркает он точно так же, как фыркал раньше, когда считал, что в моих словах что-то с чем-то явно не сходится (приподняв пушистые, миккимаусовые свои брови, полушутливо, полупрезрительно сморщив нос: «Что за чушь?»).
– Ну что ты, солнышко! – его голос звучит мягче. – Какие еще живые? Не говори ерунды. Их нет. Они проиграли…
Потом растерянно глядит на меня – будто сам удивился тому, что сказал.
– …мне кажется, – добавляет, слегка нахмурившись.
* * *Конец Революции я помню довольно смутно. Воспоминания тонут в розоватой, спасительной дымке. Наверное, такие вещи нельзя запомнить в подробностях – и остаться в здравом уме.
Но главное – главное я помню точно.
Кровь. Вонь. Дым.
Трупы. Взрывы. Крики.
День, когда он не вернулся.
День, когда я написала очень мелкими буквами на очень маленьком кусочке бумаги одно слово «умереть» – и отнесла его вниз, к статуе; вниз, где были только они. Уверенная: мне не выйти обратно. И тем не менее вышла (в беспамятстве, в полусне, даже не помню – как). Статуя отказала мне.
Главное я помню точно.
Одиночество.
Горе.
Безлюдье.
Всего тысяча уцелевших – в огромном-огромном городе.
Одна гигантская братская могила – вместо московской подземки.
Замурованные входы в метро. Чтобы не повторилось.
Чтобы не повторилось.
* * *Мы больше не возвращаемся к этому разговору. До самой ночи мы не произносим ни слова.
Потом он говорит:
– Я ложусь. Приходи скорее.
Молчу.
– Ты идешь, солнышко?
– Мне надо в душ, – отвечаю слишком угрюмо.
– Ты на что-то обиделась?
– Нет-нет, что ты.
Напрягаю нужные мышцы – натягиваю улыбку.
Запираю дверь. Раздеваюсь. Залезаю в неуютную скользкую ванну, включаю воду.
Долго тупо соображаю, какой гель для душа выбрать – Palmolive молочко с медом или Johnson’s апельсин. Беру Palmolive.