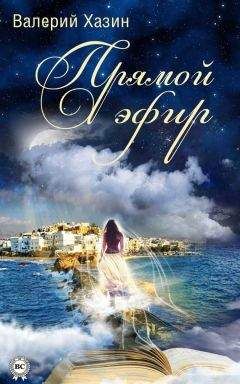Валерий Хазин - Труба и другие лабиринты
Пенелопа не выходила до темноты. Говорят, прежде чем проводить царицу в обмытый и убранный зал, служанки вывели её на дальний двор, куда сложили убитых. Она попросила показать только тело Антиноя.
Да. С того дня, когда Пенелопа признала Одиссея и как будто начала молодеть, словно не рожавшая, – с того самого дня память моя состарилась окончательно.
Ни праздников, ни трудов, ни царских лиц, ни собственных снов, – ничего, бывшего потом, я не в силах припомнить, кроме медвяного, как бы медлящего на языке, вкуса вина, которое мне начали приносить каждый вечер из кладовых царицы.
И ещё я забыл: день или ночь, когда Одиссей снова покинул Итаку. Родственники убитых женихов спустились с гор, поднялись из долин и сошлись у дворца. Кто-то, – кажется, из братьев Антиноя, – поднял копьё над толпой, и она ответила рёвом: вызывали Одиссея. А когда отдавили стражу и вломились внутрь – Одиссея уже не было: опасаясь мести, он ушёл пастушьей тропой в сторону моря.
И ещё я забыл: шесть дней и ночей Пенелопа провела, запершись со служанками, поедая медовые лепешки, пытаясь получить оракулы, и впервые сама вошла ко мне сразу после того, как дворец оставил и Телемах. Она присела прямо у полога на пол (я даже не успел толком проснуться), уронила руки в черный провал платья меж колен и сказала, что Телемах опять отправился на поиски отца.
«Дай мне яду, Ментор, – сказала она. – Всё повторяется. Я не знаю, чему верить. Оракулы говорят, будто смерть придет к Одиссею из-за моря и найдет его на родном берегу. Значит, он правильно сделал, оставив нас вновь, и ему лучше никогда не возвращаться? И зачем мне жить? Я спрашивала и о Телемахе. Он больше не ступит на землю Итаки, Ментор, у него никогда не будет детей, и род Одиссея прервётся… Дай мне яду».
Я забыл так много – и теперь (чему удивляться?) не могу вспомнить и слов, которые нашел, чтобы успокоить её. Я не сказал ей только, что, хотя здесь давно никто не верит оракулам, ремесло предков пока не обманывало меня, и мои оракулы были тверды, как зеркала: очень скоро сыновья Одиссея станут отцами, а сам он вернётся во дворец.
Да. Лишь трижды луна обновилась, а я успел забыть так много…
«Вернётся во дворец» – я сказал? Что же ты молчишь, моя память? Говори: Одиссей вернулся!
Его привезли утром пастухи на волах – я вспомнил. Когда откинули промокший мешок, прикрывавший тело, Пенелопа вскрикнула, и служанки повисли на её руках: рана над печенью царя чернела смертным серпом.
Одиссей вернулся во дворец – теперь уже навсегда, и никто не знал, чьё копьё настигло царя на берегу, где его нашли меж камней остроносые псы пастухов.
Я вспомнил: царь Итаки, омытый и умащенный, лежит теперь на ложе из кольев и копий под белою тканью в зале очага. У дверей – каменная чаша с речною водой, и двери открыты, чтобы любой мог войти и убедиться, что Одиссей больше никогда самовольно не покинет Итаку. Плакальщицы уже умолкли, наверное, и уже на холме за дворцом костер возвышается стругом.
Я вспомнил: народ из города и селений потянулся к дворцу, не дожидаясь вечерней прохлады, а я отправился на рынок, в самое пекло. Мне нужен был дударь, – лучший из дударей, которых здесь называют авлетами, – чтобы он провожал царя, когда того понесут на костер, печальной игрою и песней.
Я отправился на рынок, потому что слышал, будто в день убийства женихов появился там никому не известный авлет – совсем юный, но быстро превзошедший своей игрой всех остальных и собравший в полдня их шестидневные сборы. Мне нужно было разыскать его – теперь я вспомнил…
Рынок был пуст. Тени теснились только в проулках, и, хотя в ушах у меня звенело от тишины и нещадного солнца, я скоро услышал его, и потом, свернув в проход меж лавками менял и гадалок, – увидел. Он сидел, поигрывая, под навесом, а когда вынул изо рта свою двурогую дудку, – авлос с золотой пчелой на стыке, – я понял, чего испугался: он был юн и бел телом, волосы его и в тени отливали цветом густым и тяжёлым, словно мёд или смола, а на руках и вкруг губ, как у старца, бурели морщины.
– Так это про тебя говорят, будто никто не может сравниться с тобой в игре? – спросил я.
– Говорят те, кто не знает. Кто знает – молчит, – отвечал он.
– Значит, кругом одни болтуны?
– Разве тебя это удивляет?
– Ты очень груб, – сказал я.
– Только с болтунами, – ответил он.
– А знаешь ли ты, с кем говоришь?
– Конечно. Интересно, знаешь ли ты?
– А вот я позову сейчас стражу и прикажу схватить тебя.
– Стража во дворце. А вы все одинаковые. Наслушаетесь старух, а потом каждый приходит и тут же начинает грозить.
– Каждый?
– Каждый, каждый. Почему бы тебе не присесть, Ментор? Я вижу, у тебя снова ломит спина… Надо же! Только что ты собирался схватить меня, а теперь вот хочешь бежать. Тебя уже не занимает игра? Или ты тоже испугался?
– Чего мне бояться?
– Того, чего боятся все. Никто не возвращается от меня таким, каким приходил.
– Никто?
– Всякий, кому поначалу хотелось видеть бег моих пальцев, потом сам мечтает о бегстве.
– Зачем же ты играешь, если все убегают?
– На этом острове стали забывать хорошую игру. Но ведь ты искал меня не за этим?
– Да?
– Тебе не даёт покоя Одиссей. И ты искал утешения…
– Да…
– Ты бродил, как вино в темноте, и ноги сами принесли тебя сюда…
– Да…
– Тебя пожирает страх, и глаза твои закрываются против воли…
– Да…
– Надо же! А ведь даже ты, Ментор, не узнал меня, подобно тому, как царица Пенелопа не узнала своего Одиссея – ещё тогда, когда он вернулся к ней живым…
Значит, это он погасил свет в моих глазах: вот почему они подобрали меня на рынке, вот почему я забыл так много.
Они уверяют, что не встретили никого странного, зато отыскали других авлетов, хороших и проверенных.
Они шепчут, что не нашли ни следов Телемаха, ни его корабля, но на берегу наткнулись на богатого чужеземца с голым лицом, который пожелал предстать перед царем Итаки и приветствовать его.
Я почти не слушаю.
Они торопят: тело Одиссея уже плывёт на чужих плечах, мимо чужих голов, посреди ночи к черной горе костра, – и нам пора идти за ним, по горячим следам, потому что царь, по обычаю, должен быть объят пламенем и укрыт дымом ещё до восхода солнца, чтобы свет не успел коснуться отплывающего во тьму.
Вино Пенелопы
Сыну Телемаху здравствовать и радоваться!
Ты не поверишь, конечно, но глаза не лгут тебе, и письмена не лгут, – ведь ты не успел забыть знакомую руку: это я, всё ещё брат твой, но теперь я, властитель Итаки и Пенелопы, зову тебя сыном, и я – что бы ты ни думал – всё еще Телегон.
Ни оглядываться, ни удивляться незачем – ты как будто мог бы и привыкнуть уже к тому, что мои голуби находят твой корабль, где б он ни был.
Хотя – тебе ли не знать? – на Итаке, где змеи вползают, кажется, и в самое спальню царицы, отыскать и приручить пару сильных и зорких голубей куда как не просто. Труднее разве что подобрать надежных служанок.
Впрочем, сколько могу судить, тебя никогда не занимали ни окрестности дворца, ни его нутро.
Ты опять удаляешься, пересекая море, а я снова пытаюсь письменами нагнать твой корабль из-под дворцовой крыши. Пишу и не понимаю: то ли я совсем овладел языком Итаки, то ли шелест и свист вашей речи овладели мной – ведь не может и в самом деле именоваться дворцом дюжина прокоптившихся комнат, облепивших в два яруса зал очага наподобие осиных сот, или опять какое-нибудь слово увернулось от меня?
Ветра теперь иные, Телемах, – знобкие, разрывистые, низовые; теперь и солнце в выцветшем небе словно забрызгано мокрою солью, и я не знаю, куда ты плывешь, но знаю – зачем.
И вот я тороплю голубя вослед и сам спешу сказать тебе: чтобы отыскать отца, не нужно пересекать моря – в нём, вопреки молве, нет ничего пугающего или манящего.
И Одиссея нет, Телемах, – ни на суше, ни посреди вод. Его тело сожгли здесь, на Итаке, – как уверяет Ментор, в полном согласии с обычаем и данью. Боюсь и подумать, но, похоже, тот самый ветер, что взвивал и развеивал прах Одиссея, надувал и парус над твоим кораблем и гнал его от берегов Итаки, – боюсь и подумать. Море вновь обмануло нас. Ты, может быть, только выбирался из залива, пока мои осторожные кормчие огибали незнакомые скалы с другой стороны Итаки, и уже тогда, наверное, (боюсь и подумать) среди живых не было того, ради кого я завершал, а ты начинал своё плавание.
Послужит ли тебе утешением то, что ты хотя бы увидел отца и даже успел, вместе с ним, поднять руку на обидчиков, а меня, как чужеземца, не допустили и к костру? Утешит ли это тебя? И куда теперь, под каким ветром, намерен ты плыть?
Ты отплывал, Телемах, а мы берегли корабль, опасаясь мелей, и едва сумели высадиться, когда берег начали заливать сумерки, и тропы, как змеи, попрятались, одна за другой, словно уползая вверх от подножий. Надеясь отыскать большую дорогу, мы разделились, но тьма обгоняла, и очень скоро я потерялся и отстал, спотыкаясь на каждом шагу. Моё копьё с шипом черного ската на конце (дар матери, царицы Кирки, получившей его от старшего брата Ээта) само собой обернулось посохом.