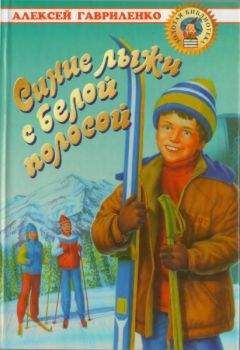Олег Рой - Фамильные ценности, или Возврату не подлежит
Да, она запросто могла бы и прогореть: сколько из тех, кто начинал в девяностые, сохранил свой бизнес? Аркадия Васильевна – сохранила. Не только не разорилась, а почти сразу начала получать хоть небольшую, но все же прибыль. И это, разумеется, был уже результат не каких-то всесильных покровительств, а ее собственных способностей. Первый свой ассортимент Аркадия собрала, смешно сказать, по ломбардам, которые всегда рады продать невыкупленные заказы. Ну а чутье у нее всегда было отменное. Отобранные ею украшения не только быстро нашли своих покупателей, а большинство из них запомнили крошечный тогда еще магазинчик как «интересное, перспективное место». Многие наведываются и по сей день, зная, что ассортимент ее салона способен удовлетворить самый взыскательный вкус.
А фундамент успеха, если вдуматься, закладывался в далекие семидесятые, когда ни о каких собственных магазинах ни у кого еще и мыслей возникнуть не могло.
На закрытой вечеринке у Соколова, в то время над головой всесильного директора «Елисеевского» еще не только не начали сгущаться тучи, а и тени облачка не мелькало, Аркадия познакомилась с самой Галиной Брежневой. И не просто снискала расположение генсековской дочери, но и подружилась с ней. Ну подружилась не подружилась, но отношения у них сложились вполне приятельские. Аркадия консультировала Галину Леонидовну при выборе драгоценностей, отыскивала для нее уникальные раритеты, продала даже две-три вещицы из дедовской «сокровищницы». Платила Брежнева более чем щедро – и не только деньгами. Вскоре Аркадия стала обладательницей двухкомнатной квартиры в самом центре Москвы и вдобавок двух автомобилей – без всяких очередей и записей. Одну из машин Аркадия отдала Матвеевым. Может, именно поэтому Миша-младший на всю жизнь влюбился «во все, что на колесах».
Постаревший, но отнюдь не потерявший живости ума «дядя Родя» – Родион Петрович Солнцев – был уже на пенсии, но связи «в соответствующих кругах» сохранил. Знал он куда больше того, что мог рассказать, но предупреждал Аркадию довольно настойчиво:
– Связи в верхушке – дело хорошее, – ворчал «дядя Родя», когда она заглядывала «на рюмку чая». – Только гляди в оба и держи нос по ветру. Сильно во всякие эти дружбы не встревай. Когда осколки полетят, лучше подальше быть. А осколки полетят, помяни мое слово. Старый-то совсем из ума выжил, все побрякушки на себя цепляет, уже места на пиджаке не осталось, скоро на штаны вешать станет, все пыжится. Был зоркий орел, никто его в аппаратных играх переиграть не мог, стал павлин надутый. А Галька с Чурбановым своим и вовсе стыд потеряли, все им, вишь ты, позволено. Не станет старика, от них только пух и перья полетят, попомни мое слово.
Аркадии мрачные пророчества Солнцева казались старческим брюзжанием отставного аппаратчика – у них там у всех чуть не паранойя на почве «кто кого подсидит» развивается. Кто это, интересно знать, сможет пустить «пух и перья» из таких людей. Ведь самая же верхушка, выше только английская королева, да и то еще бабка надвое сказала. Да и чего дядя Родя пугает, у нее-то, у Аркадии, с Галиной Леонидовной отношения больше деловые, нежели приятельские. Хотя та и скакала по жизни «без удил», и любила ради пущего эпатажа демонстрировать, что она-де «своя в доску» где и с кем угодно, однако выносить рядом с собой такую яркую красавицу, тем более на десять лет себя моложе, ни одна женщина не согласится. А Галина Леонидовна была в первую очередь женщиной. Взбалмошной, самовластной, дерзкой, временами истеричной – то есть обычной, по сути дела, женщиной. Просто высокое положение и, как следствие, полное отсутствие каких бы то ни было тормозов, абсолютное «все позволено» превращало довольно распространенные женские особенности в почти карикатуру, ну или как минимум очень ярко их высвечивало. А поскольку поддакивать и «подавать восхищенные реплики» Аркадия никогда особенно не любила, ближе требуемого она к Галине старалась не подходить.
Правота Солнцева вместе со всеми его «глупыми страшилками» впервые стала ей очевидна, когда на смену Брежневу, после промелькнувшего на политическом небосклоне Черненко, явился Андропов, и почти сразу, следом за директором «Березки» и его женой, арестовали Соколова («жена из «Березки» была его непосредственным заместителем). Услыхав об этом, Аркадия почувствовала, как в подвздошье образовался тяжелый ледяной комок. Все-таки Юрий Константинович, хоть и благоволил к «прекрасному во всех отношениях товароведу», оставался всегда фигурой недосягаемой, из «небожителей». И если уж «берут» таких людей, значит… значит, дядя Родя был прав! Страх жесткими ледяными пальцами гладил по позвоночнику, вцеплялся в горло, сжимал сердце. Господи, молилась она, сжимая браслет, какое счастье, что Соколов не успел сделать ее начальником алкогольного или деликатесного отдела! А сейчас – подумаешь, товаровед, заместитель начальника бакалейного! Это только со стороны кажется – ох, шишка какая, в «Елисеевском» начальница. Начальница, как же! Над мукой и макаронами. В масштабах «Елисеевского» – мелочь. И это давало надежду.
Ох, только бы пронесло, только бы пронесло!
Таскали тогда всех, весь персонал. На допросе, который корректно именовался беседой, Аркадия сразу «включила дурочку». Мол, мы люди маленькие, ничего не знаем, какими там тысячами наверху ворочали. Знать она и вправду ничего не знала: замначальника не самого престижного отдела рыбешка и впрямь не из крупных. Догадываться, конечно, догадывалась, но об этом следователю можно было и не докладывать. Тем более что следователь был молодой, маститых-то «зубров» небось на допрос больших начальников бросили. А она, Аркадия, мелкая сошка и вообще в торговле не так чтоб очень, сюда ее бабушка покойная пристроила, к себе под теплое крылышко.
Когда следователь уже подписывал пропуск на выход, она, жалобно глядя еще прекрасными в свои «чуть за сорок» глазами, робко поинтересовалась, будут ли ее еще вызывать. И, вместо того чтобы, как полагалось, сухо ответить: мол, если понадобитесь, вызовем, следователь зачем-то спросил: «А что такое?» Аркадия, изображая крайнюю степень смущения, «объяснила», что у нее проблемы со спиной, а тут подвернулась путевка «на грязи». Следователь просмотрел еще раз ее скудные показания и махнул рукой: дескать, езжайте в ваш санаторий.
Через знакомых она моментально раздобыла какую-то путевку, оформила отпуск, приплюсовав еще два, за предыдущие годы, и уехала в Сочи, строго-настрого наказав Татьяне: если что-то случится, тут же мне сообщайте, и сама, мол, буду звонить каждый вечер. Ничего, разумеется, не случилось. Да и что могло произойти – дети в ее заботах не нуждались, как и весь дом, собственно. Впрочем, они и раньше без нее отлично обходились. А уж теперь-то, когда они практически взрослые, и вовсе.
Правда, Нюра-Анна, принимая равнодушие матери как должное, видимо, все-таки тяготилась им. Категорически отказавшись от Плехановского, она закончила истфак и пошла работать в архив. Тихая, молчаливая, незаметная. Такая же, как ее уже забытый всеми Приваловыми-Матвеевыми дед Василий Иванович Тихонин. И, как оказалось, такая же несгибаемая. Кремень. Тихо, ни с кем не советуясь, ни у кого не прося «благословения», сразу после защиты диплома вышла замуж и…
Едва родив Бальку, «вернула старый долг», поступив ровно так же, как когда-то поступили с ней.
Стремительно разведясь, Нюра оставила маленького сына Аркадии Васильевне, как та когда-то спихнула ее саму в руки Татьяны, заботливые, но, как ни крути, не родные.
И – это было как гром с ясного неба! – ушла послушницей в небольшой монастырь, один из тех, что начали понемногу возрождаться в меняющейся России. Затем приняла полный постриг, а через несколько лет, простудившись при исполнении взятого на себя особо сурового обета, тихо угасла, счастливая и умиротворенная.
Ну, по крайней мере, так рассказывали «сестры»: мол, благость на нее перед смертью снизошла, радовалась она, всем сердцем радовалась. Вряд ли монашки врали. Зачем бы им?
Но Аркадия Васильевна все равно чувствовала себя виноватой перед дочерью. До сих пор чувствовала.
* * *…повернулась, чтобы разглядеть висящие над гардеробом часы – и не закончила движения…
Горло перехватило так, что нельзя было больше сделать ни одного вдоха. Или это сам воздух вдруг стал непригодным для дыхания? Стал холодным, колючим, как ледяная крошка, которая остается после прогрохотавшего по замерзшей луже грузовика. Острые осколки весело искрятся, переливаются, сверкают ярким, режущим бриллиантовым блеском – но дышать ими нельзя, они царапают горло, впиваются, застревают, их не протолкнуть дальше, туда, где обезумевшие, горящие легкие кричат в ужасе: воздуха! Воздуха! Только бы вдохнуть…