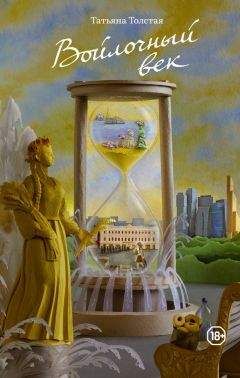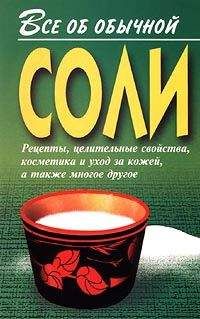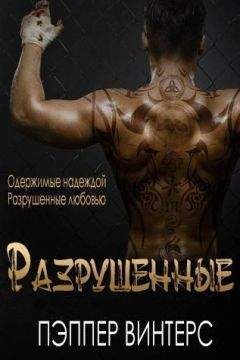Татьяна Толстая - Легкие миры (сборник)
И он бродил среди всего этого великолепия с толстой пачкой денег во внутреннем кармане пиджака, зашпиленном булавкой, чтобы не вытащили в метро, и цепким глазом художника выискивал самое лучшее. И там, в Рязани, жена, понятно беспокоясь об этой скопленной многолетним трудом пачке, волновалась и мечтала, представляя себе, как волшебно преобразится их супружеское ложе, как таинственно, по-новому ляжет полоса лунного света на тихо сияющий лак тумбочки, как обновится их любовь, как обзавидуются подруги.
И в одном из магазинов, у задней стенки, он увидел скульптуру. Белую, мраморную, в человеческий женский рост. Юдифь с мечом.
И пропал.
Уж наверно, наверно он слыхал про Пигмалиона, изваявшего и полюбившего Галатею; это даже в школе тогда рассказывали; был такой расхожий набор романтических мифов, безвредный и потому доступный для советского человека: для юношества – Орфей и Эвридика, для женщин бальзаковского возраста – верная Пенелопа, ждущая мужа из странствий, вот и Пигмалион тоже; Май Фэр Леди, кто же не знает.
Но одно дело быть в курсе, а другое – насмерть влюбиться в каменную женщину. И когда я говорю насмерть, я имею в виду: насмерть.
Художник спросил: сколько? – Столько-то. Поторговался, но все равно выходило дорого, так дорого, что денег не хватало; он послал жене телеграмму: вышли еще. Она забегала, занимая у соседей и друзей: наверно, красного дерева, наверно, с завитками, с бронзовыми накладками!
Он купил свою любовь на все огромные деньги; осталось только на билет в Рязань и на грузчиков. Юдифь замотали тряпками, но грузчики были советские, пьяные, неквалифицированные; когда ее волочили по платформе и запихивали в вагон, кончик меча отбился.
Он приволок ее домой, на свой второй, кажется, этаж. Да.
Вот вы – жена, вы ждете домой мужа с улучшенным, украшенным супружеским ложем с сопровождающими его тумбочками – сакральными предметами, что говорить. Мысленно вы уже раскинулись, разметались на матрасе, снова юная такая и сладострастная. И тут он вваливается в дверь – с новой бабой.
Ну и что, что она мраморная? Тем хуже.
Жена, – рассказывает Марья Васильевна, если вы еще не забыли, кто она, – бежала вон, вместе с детьми. Больше ее в Рязани с тех пор не видели. А мы, – продолжает Марья Васильевна, – наконец договорились и попали к нему в гости. Взяли торт, с зелеными розами такой. Но оказался вкусный. Он поставил чайник. Он очень приятный человек, вежливый. Картины у него интересные. Живет один. ЕЕ, – в священном ужасе пишет Марья Васильевна, – мы тоже видели: ОНА стоит у стенки, белая, опустив глаза, волосы убраны на прямой пробор, и сзади узел. Кончик меча отбит. В квартире чистенько, – пишет далее Марья Васильевна, – но под шкафом я заметила какой-то странный серый коврик; я нагнулась рассмотреть, а это пыль; то есть он ее лет восемь не убирал, пыль эту. А так он совершенно нормальный.
…Вот такое было письмо, и все это осталось там, за барьером, и нет уже, наверно, ни Марьи Васильевны, ни художника, ни всего этого мира.
Только любовь есть, внезапно и необъяснимо, и всегда та же история: и постыдно, и бессмысленно, и на все деньги. И молчит.
Молчи, но только будь.
Чечевица
Каждый раз, как варю чечевицу, вспоминаю.
Начало шестидесятых годов. Мамина подруга, Вера Кракау, купила в магазине редкостную редкость: чечевицу. Обрадовалась! Последний раз перед войной ее видела! Позвала гостей: художника Боба Крейцера с женой. Съездила в Елисеевский, купила рыбки красной и белой, хорошего сыру, ананас. Хлеб «ленинградский», длинный, замена французскому багету. Масло вологодское. Паюсная икра.
И как вершина всего – чечевица.
Вежливый Боб Крейцер чечевицу ест, но видно, что ему не очень.
Вера Кракау, обеспокоенно: «Вам не нравится?»
Боб Крейцер, меланхолически: «Да нет, ничего, я привык. Десять лет, каждый день, в лагере-то»
Крейцер сидел, сначала в тюрьме, потом в лагере как английский шпион. Должны были расстрелять и уже вывели на расстрел, но на последней перекличке что-то там не сошлось. Фамилия такая-то? Такая-то. Год рождения такой-то? Такой-то. Все надо было повторить «полным ответом», как в школе. Место рождения такое-то? По документам он родился в Орле, а на самом деле в Берлине. Он и возразил. Немножко удивились: а чего это он в Берлине родился? – отвели в сторону, слово за слово, а потом как-то шестеренки расстрельной логики дали сбой, и убивать его не стали. Отправили в лагерь. Сидел с уголовниками. Эти его тоже не съели, потому что он хорошо «романы тискал». Пересказывал Жюль Верна, Гюго, Майн Рида – что там читали мальчики из хороших семей? (Кстати, хозяйке на заметку. Учите детей читать книги, может пригодиться.)
В него влюбилась дочь начальника лагеря. Такая – с глазами в пол-лица. Тамарочка. Восемнадцать лет. А ему, наверно, лет сорок пять уже, коротконогий, доходяга, очки, веснушки, картавит. Родители Тамарочки били ее смертным боем, чтобы разлюбила его, но она не разлюбила. Они выгоняли ее на мороз, и она застудила себе женские органы, и у нее никогда потом не было детей.
Когда его срок вышел, его выпустили на свободу, и Тамарочка бежала вместе с ним. Они скитались по дальним, разрешенным к проживанию городам, ища работы и пропитания и опасаясь преследования, и оно было. Однажды ночью, зимой, принесли телеграмму. Боб читал ее и не мог понять ничего – чушь какая-то. Но одно слово было его детским именем, прозвищем, которое было известно только близким, и очень немногим. Это был тайный знак, не иначе. Кто был этот неизвестный друг? Что он знал? Как смог предупредить? Они так и не узнали этого, а просто наспех оделись и бежали из этого города. А утром пришли их арестовывать, но опоздали.
Так они перебегали несколько лет, чувствуя, что спасение в движении. Боб-то был покрепче – все же он читал Майн Рида, Жюль Верна, Гюго и другие укрепляющие дух и разум книжки, – а Тамарочка начала сходить с ума от страха. Она сидела на табуретке и раскачивалась часами: взад-вперед, взад-вперед. Боб боялся, что она правда обезумеет.
Но если подумать, то зачем бы ей был нужен ум, Тамарочке? Все ее существо было чистая безрассудная любовь.
Так они дотянули до 1956 года, и была амнистия, и Бобу разрешено было жить в Ленинграде, вы подумайте; и у него даже была своя отдельная однокомнатная квартира, и все вообще кончилось хорошо, так сказать. Вот только детей не могли завести и чечевица казалась на вкус не очень.
Я теперь думаю: вот потому и не было ее до начала шестидесятых, чечевицы-то. Весь урожай шел в лагеря. А когда лагеря позакрывали – потоки чечевицы направили в магазины для гражданского населения. Ешьте. Теперь ваша очередь.
Временно.
Желтые цветы
Лютой ненавистью я ненавижу салат «Мимоза».
Нельзя сказать, чтобы он был невкусным, – нет, почему, вполне съедобная, в меру вредная пищевая глина, пародия на селедку под шубой. Ненавижу я его по соображениям эстетическим и идеологическим; я через него всю эту среднебрежневскую эпоху ненавижу, перемежающуюся хромоту застоя, постоянную, не дающую ни на минуту забыться нехватку всего необходимого для жизни: билетов, мяса без костей, книг, лекарств, книг, кранов-смесителей и каких-то болтов и прокладок к ним, книг, детских игрушек, гречки, купальников, книг из серии «Библиотека поэта», батареек нужного размера, мест в гостинице, лосося в собственном соку, книг из серии «Литературные памятники», кофе, питьевого чая (непитьевой был в продаже всегда), книг, стирального порошка, дрожжей, книг, оправ для очков, сапог, книг. Книги как бумажный продукт в магазинах были, но только поддельные, комсомольские, с говнозадором: «С ветром споря», или стихи Игоря Кобзева – про то, например, как грабитель напал на кассиршу, а та смело вступила с ним в борьбу («Кассирша знала: бой они вели // Не только за народные рубли»), или проза Антонины Коптяевой – не хочу даже начинать думать, кто такая. Все, кто сумел, нашли какой-нибудь блат, но и у блата была своя иерархия. Так, я, конечно, пристроилась к Союзу писателей и еженедельно получала свою гречку, чай со слоном, банку рыбных консервов, зефир в шоколаде, полиэтиленовый кулечек развесного «Мишки на севере» и, в общем, каталась как сыр в масле, но уже в Лавке писателя на Кузнецком мосту выходил облом: я была всего лишь Член Семьи Покойного Писателя, жалкая маргинальная козявка, и хорошо помню, как мне отказались продать «Тараканище» Корнея Чуковского – кишка тонка, это не для вас, девушка.
В то же время летом сияло прекрасное солнце, а зимой шел чудесный снег, и если б даже с неба сыпались головешки или конский навоз – мы бы тоже как-то перетерпели бы, приспособились, носили бы колпаки, сделанные из картонной тары, что ли.
Но все же хотелось жить с достоинством, поелику возможно, и женщины семидесятых в творческом порыве изобрели салат «Мимоза».
Я, конечно, не знаю точно, кто и когда его изобрел, но помню, что с начала семидесятых он начал набирать бешеную популярность, и в вечных разговорах о том, кто что как приготовил, «Мимоза» обсуждалась самым оживленным образом, как удивительная, яркая и, я бы сказала, динамическая новинка. «Мимозу» можно было приготовить из всего: она бывала с рыбой и без рыбы, с сыром и без сыра, с луком и без лука, в зависимости от настроения и от того, какой продукт был в дефиците на тот конкретный момент. Главное в ней было – майонез и натертые на терке вареные желтки, из-за сходства коих с шариками мимозы салат и получил свое название.