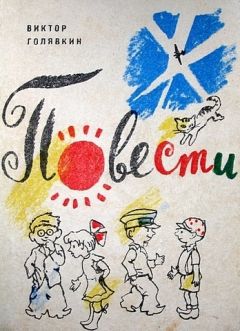Виктор Казаков - Конец света
– Водка не портится, – пожав плечами, возразил нечуткий Кеша.
Степа рассердился:
– Дурак ты, Кеша. Помнишь, когда-то продавали «столичную», «сучек», «коленвал», «андроповку» – и все по разной цене. А почему? Ты думал об этом?
– Думал, – примирительно ответил Кеша и сказал неправду: он не различал водку по вкусовым признакам, любил пить любую, а от той, что драла горло, ему даже быстрее становилось интереснее и веселее жить.
Выпили по второму стаканчику.
Поставив свой стаканчик на газету, Степа, наконец, потупил взгляд в дальний угол будки, где стояла бочка соленой капусты, и заговорил о главном:
– Слышал вчера?
– Слышал.
– Неужели правда: п….ц всем? – Степа не дал другу времени, чтобы ответить, и, все больше распаляясь обидой по поводу грядущей из космоса несправедливости, в сердцах продолжал:
– Значит так: мало нам революций, коллективизаций, войн, голода-холода, «гекачепе», шоковой терапии… Мы еще должны увидеть, когда всем п….ц? Чтобы на другой день на том Свете рассказывать: интересно было, товарищи и господа; кроме нас, такого еще никто не видел даже в японской Хиросиме!
– Погибнут культурные ценности, – вздохнув, заметил Кеша.
Он уже слегка захмелел, а в таком состоянии Кеша начинал мыслить масштабно.
Степа же, захмелев, напротив, начинал думать узко и эгоистично:
– Значит, все, для чего я карачился, все это теперь куда? Коту под хвост? Негру в жопу? И ничего уже нельзя предотвратить? – он в упор сердито посмотрел на друга, как будто Кеша, а не кусок агрессивной планеты угрожал в ту минуту Степиному благополучию.
Кеша посчитал минуту подходящей, чтобы тоже поделиться наболевшим.
– Если бы ты, Степа, – сказал он, – добавил тогда к моему первоначальному капиталу некоторую сумму…
– И что было бы? – перебил Степа.
Кеша вздохнул, поднял глаза к потолку будки, внимательно осмотрел на потолке все неровности и только после этого ответил – сказал совсем не то, что собирался сказать:
– Было бы у нас с тобой, может, совместное предприятие.
Степа снисходительно посмотрел на друга, а Кеша мстительно продолжал:
– Конечно, вам, олигархам, тяжелее всех придется…
Он завидовал Степиному богатству, а чтобы успокоить совесть, с некоторых пор стал убеждать себя, что Степа разбогател не по правилам, а потому было бы справедливо, если бы он любую половину нажитого добра отдал ему, своему лучшему другу.
Степа уловил в душе Кеши шевеление злого червя и в отместку больно щелкнул собеседника по носу:
– Я тебе, Кеша, денег и тогда не дал, и сроду не дам. Разве что на опохмелку – чтоб долго не мучился.
– Почему?
– Бесполезно. Деньги ты умеешь только тратить, а зарабатывать можешь одним способом.
Как ни сердит был в ту минуту Степа, он вдруг улыбнулся, потому что вспомнил про Кешин «первоначальный капитал», к которому он «тогда», несмотря на отчаянные просьбы друга, действительно, ни копейки не добавил.
Кеша сочетал в себе два взаимно уничтожающихся свойства: он любил деньги и любил выпить. Поэтому денег у него никогда не было, а неудовлетворенная любовь к ним оборачивалась завистью к тем, кто угощал его водкой и при этом, как бы крепко ни угощал, еще и на будущее сохранял в кошельке некоторую сумму. Зависть, конечно, больно жгла душу грузчика овощного магазина, но жила в нем, так сказать, подпольно, на людях была смиренной и неагрессивной – Кеша боялся, что, распахни он до конца душу, благодетели перестанут его угощать…
Но однажды у Плаксина появились и на некоторое время сохранились собственные деньги – Кеша честно заработал (правда, нетрадиционным способом, о котором сейчас ему и напомнил Степа) приличную для него сумму.
Дело было несколько лет назад. На берегу небольшой речушки, спрятанной посреди густого ельника (в двадцати километрах от Обода), сидели с удочками человек восемь ободовцев, среди которых были и Степа Замойский, и Кеша Плаксин. Окуни и подлещики, водившиеся в речушке, к обеду клевать перестали, сидеть без дела стало скучно, и компания собралась пообедать – в рюкзаках еще оставались несколько бутылок водки и кое-какая снедь. Устроились в тени старой ели, в нескольких метрах от большого муравейника.
И во время того обеда одному из рыбаков пришла в голову и тотчас же была озвучена шаловливая идея:
– Кто без штанов сядет вот на этот муравейник и просидит там пятнадцать минут, получит ведро самогонки!
Идею со всех сторон заинтересованно обсудили и единогласно одобрили; потом все почему-то стали внимательно глядеть на Кешу Плаксина.
Кеша вызов принял, только предварительно решил уточнить:
– Голой жопой?
– Абсолютно!
Кеша в обусловленном виде на большом муравейнике честно отсидел пятнадцать минут, после чего, надевая штаны, обратился к коллективу с неожиданным вопросом:
– А можно мне самогонку получить… деньгами?
Сидя на муравейнике, Кеша, вероятно, решил не делиться нелегко заработанным напитком с собутыльниками (а делиться пришлось бы – таков был для таких случаев давно установленный в Ободе неписаный закон), а главное, там, на муравьиной куче, видимо, под влиянием сильных ощущений ему вдруг захотелось начать новую жизнь, для которой нужны были деньги – хотя бы столько, сколько стоило в городе ведро самогонки.
За проявленное Кешей мужество компания согласилась заплатить деньгами, договор выполнила, и у Кеши впервые в жизни появились в кармане несколько крупных ассигнаций, которые он гордо стал именовать «первоначальным капиталом», ибо в мыслях уже видел себя средней руки капиталистом.
Получив деньгами, Кеша хотел взять в аренду торговое место в городском гастрономе – отдавали четыре квадратных метра, – чтобы продавать там… он так и не успел сообразить, что будет продавать на тех метрах, потому что гастроном вдруг затребовал денег больше «первоначального капитала», а добавить недостающую часть лучший друг Кеши Степа Замойский отказался.
Кеша заметно захмелел.
– Деньги я заработаю в лотерею, – мечтательно сказал он, опять устремив взгляд в низкий фанерный потолок будки.
– Лотерея – налог на дураков. Да и билеты там не бесплатные. Ты купил билеты?
– Купил… Один.
Выпили еще по порции.
Степа хотел быстрее опьянеть, надеялся, что, пережив встряску алкоголем, он потом осилит и угнетавшее его состояние депрессии. Но водка почему-то не брала. Друзья сняли с полки и почти опорожнили уже третью бутылку, а голова у Степы, как назло, с каждой минутой работала все яснее.
– Мы с тобой, Кеша, дураки. Думаем, говорим о деньгах, а в это время в космосе…
Кеша тоже вспомнил, что жить им, наверно, осталось недолго, но он, в отличие от Степы, был уже хорош и потому сплетал языком что попало.
– Лев Николаевич Толстой, Степа, намекал…
В трезвом состоянии Кеша никогда не думал о знаменитых предшественниках, но, захмелев, на задворках своего мозга к собственному удивлению вдруг начинал улавливать когда-то слышанные в школе имена и даже некоторые цитаты. Когда он внезапным озарением вслух начинал делиться с теми, кто в это время был с ним рядом, он никогда не употреблял слов «писатель рассказывает», «рисует», «изображает», «учит», все эти слова заменял одним словом – «намекает».
Степа, не выслушав мысль Льва Николаевича в интерпретации Кеши, перебил друга:
– А вот известный тебе Николай Островский, он же Павка Корчагин, в свое время «намекал»: жизнь человеку дается один раз…
Кеша замолк; через некоторое время он уже пел, фальшивя, популярную песню о том, как он любит жизнь и хотел бы надеяться на ее взаимность.
Степа тоже стал думать о жизни. Перебирая в памяти пятьдесят шесть прожитых лет («а продолжения, возможно, уже и не будет»), он честно признавался себе, что жизнь свою он потратил зря и был на этом свете несчастливым и лишним…
Уже в детстве ему хотелось стать богатым, хотя он тогда и не понимал, зачем это надо. В детсадике из двух конфет, которые детям полагались на ужин, он одну конфетку прятал в штаны, потом выменивал за нее серебряную двадцатикопеечную монетку, которую прятал уже глубже – в маленький кармашек трусов. Капиталиста из Степы в те годы не получилось: накопленные мучительной экономией монеты (маленький Степа, как на зло, любил сладкое) однажды во время послеобеденного «мертвого часа» исчезли вместе с трусами… Школьником он накопил монеток уже целую банку из-под майонеза, хранил их в земле возле дома, но и этот капитал Степа не устерег от зорких глаз соседей… К тому времени, когда Замойский уже работал токарем ремонтного цеха на местном заводе железобетонных изделий, он твердо знал, что экономия – пустой способ разбогатеть; богатым можно стать тремя путями: деньги надо или украсть, или отобрать, или заработать. Легче всего, конечно, было украсть, но Степа самокритично сознавал: для того, чтобы не попасться, у него пока мало ума; второй путь тоже не подходил – вырос Степа узкоплечим, несильным недомерком. Оставался третий, самый трудный, способ, и Степа стал думать, как на своем стареньком станке выточить деталей больше, чем полагалось по норме. И однажды за месяц он получил из кассы не сто восемьдесят рублей, а – согласно выработке – на пятьдесят рублей больше. При этом Степа еще не раскрыл всех придуманных им производственных секретов, что вдохновило его на очередном производственном собрании нагло заявить сидевшему в президиуме директору завода Мыслюкову (нынешнему мэру Обода):