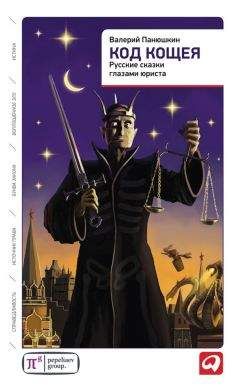Валерий Панюшкин - Незаметная вещь
Некурящий доктор Миша сказал:
– Пойдем на улицу покурим. Невозможно же смотреть на это наглядное свидетельство того, что все люди братья.
В это время отворилась дверь, в зал вошла полная женщина лет сорока и закричала зычно по-английски:
– Где этот русский мальчик?
Единственный из наших детей, который еще не нашел своего донора, был совершенно на эту женщину не похож.
– Ну слава богу, – сказал доктор Миша. – Хоть эти не похожи друг на друга как две капли воды. Хоть как-то разбавляется экзистенциальное напряжение.
Мы подозвали женщину, познакомили с ее реципиентом. Она села рядом с мальчишкой на корточки, принялась щипать его за щеки, трепать ему вихры, подарила медведя… Потом подмигнула нам и сказала:
– Сейчас придут мои дети.
Через минуту в зал вошли дети этой женщины, близнецы. Наш мальчишка из Оренбурга был похож на этих близнецов из южной Англии как третий близнец.
За Виню
Моя мама купила Виню в магазине «Лейпциг» за год до моего рождения. «Вот у меня родится сын, – подумала мама, – и пусть у сына будет Виня». Первое мое отчетливое воспоминание о Вине относится к тому времени, когда мне было два года. Мы летим на самолете из Москвы в Петербург, Виня задумчиво смотрит в иллюминатор. Подходит стюардесса, улыбаясь, предлагает кислые карамельки. Я беру восемь и говорю Вининым голосом: «И мне тоже две».
Так Виня впервые заговорил. С годами эта способность в смышленом медведе развивалась. Я изощрялся, как мог. Я дошел чуть ли не до чревовещания. Во всяком случае, голос и характер Вини сильно отличались от моих. Я был болтлив, толст и трусоват. Виня же, наоборот, задумчив, ловок и бесстрашен. Я, безропотно покоряясь бабушкиному повелению, ел отвратительную рисовую кашу с курагой, а Виня, несмотря ни на какие угрозы, выбирал из тарелки только курагу. Виня ходил голым зимой, валялся в снегу, оставался ночевать на улице в шалаше и не боялся темноты. А я соглашался спать в носках.
Как-то раз взрослые мальчики остановили нас возле магазина и хотели отобрать выданные мамой на покупку молока деньги. Я убежал, а Виня остался невозмутимо лежать на траве и следить за движением облаков. На левой Вининой лапе белела (лапы набиты ватой) продольная рана. Наполовину оторвавшаяся от туловища голова болталась на нескольких суровых нитках.
Это было первое серьезное ранение в Вининой жизни. Несколькими месяцами позже медвежонка изуродовал в детском садике мой одногруппник и тиран Кирилл Щекотуров. Я боялся Щекотурова как огня, льстил ему, подносил тапочки после прогулки и добывал для него в столовой горбушки. Виня никогда ничего такого не делал, и однажды в самом начале тихого часа Щекотуров оторвал Вине голову.
Я прямо в белых трусах и белой майке побежал к заведующей. Меня пытались остановить воспитатели, но я покусал их и вырвался. Я знал, что на клиническую смерть человеку отпущено четыре минуты. Почему же медвежонку больше?
– Что? Босиком? – всполошилась заведующая.
– Спасите Виню! – крикнул я, бросил две медвежьи половинки на стол и выбежал из кабинета.
В игровой комнате я взял большую пластмассовую кеглю, вернулся в спальню и, захлебываясь слезами, крикнул:
– Встань, старый Щекотуров!
Слово «старый» было тогда единственным и самым страшным известным мне ругательством.
Я, наверное, выглядел чудовищно, потому что тиран Щекотуров послушно встал, прижался к какой-то тумбочке и в знак примирения протянул мне недавно выломанный из игрушечного автомобиля выключатель. Но поздно. Я бил Щекотурова кеглей и выкрикивал какие-то бессвязные слова: «За Виню! За черепаху! За тапочки! За воробья! За Виню! За Виню!»
Виню зашили. Я стал водить его гулять на Воробьевы горы. Однажды мы возвращались домой по метромосту, и Виня сказал мне:
– Почему ты жмешься к проезжей части? Боишься высоты?
– А ты разве не боишься? – парировал я.
– Нет, – лукаво отвечал Виня. – Спорим, спрыгну?
И Виня спрыгнул. Он медленно летел вниз в Москву-реку с самого верхнего яруса метромоста, а я стоял наверху, и постепенно до меня доходило, как ужасно то, что произошло. Из оцепенения меня вывел увесистый отцовский подзатыльник. Я закричал и перестал видеть вокруг предметы.
– Папа, спаси его!
Так, кажется, я кричал, а отец быстро тащил меня за руку назад к смотровой площадке, а потом вниз, вниз к набережной. По пути мы набрали камней, и отец стал бросать их в реку так, чтобы невозмутимо плывущего медвежонка прибило к берегу.
Я боялся, что Виня намокнет и утонет, или что его унесет куда-нибудь в открытое море, но отец кидал и кидал камни, пока наконец не вытащил Виню на остановке речного трамвайчика.
– Никогда больше не топи друзей, – сказал мне отец.
– Он сам прыгнул… – я пытался оправдываться.
– И не ври!
С этих пор Виня начал лысеть. Шерсть вылезала, и ткань расползалась во многих местах на лапах и на голове. Я сшил Вине комбинезон, а соседка по коммунальной квартире связала ему шарф. Примерно в это же время я дорос до той критической отметки, когда мальчики перестают интересоваться плюшевыми мишками. Я все чаще не брал Виню на прогулки. Мне нужно было интересоваться девочками, меня приняли в комсомол, мне исполнилось четырнадцать лет.
Тут-то и произошло предательство.
– Почему бы тебе не назначить Виню талисманом? – посоветовал мне как-то дядюшка.
То есть не играть с ним больше. Не разговаривать, не носить на уроки в школу, а просто посадить в комнате на почетное место и забыть. Я послушался. Я разыскал медвежонка и сказал ему:
– Виня, ты теперь будешь у меня талисманом. Это же лучше, чем игрушкой…
Медвежонок не сказал ни слова. Больше никогда. Я предал его. И он онемел от горя. Теперь изредка, вытаскивая Виню из шкафа, я думаю: «Вот мы были ровесниками. Он – сорвиголовой, я – трусом. Он никого не предал, я предал его. Ему отрывали голову дважды, мне – никогда. Он лежит теперь на полке среди старых вещей все равно что мертвый. Я работаю в журнале «Столица» шеф-корреспондентом и дружу с главным редактором».
По всему выходит, что мой способ жить правильнее Вининого. Но откуда тогда печаль? Я не знаю.
Может быть, Виня знает. Но Виня молчит.
Компот
Когда нынешний шеф-редактор «Коммерсанта» Азер Мурсалиев служил в армии, поваром у них в полку был человек по прозвищу Компот. У него и фамилия была говорящая: то ли так-таки Компот, то ли Кампо – одним словом, фамилия была малороссийская, а сам повар представлял собой тот тип добродушного великана-украинца, который часто встречается в жизни, в классической русской литературе, да и в современных анекдотах тоже.
За первый год службы (тогда в армии служили два года) Компота никто не видал ни злым, ни раздраженным. Никто не слыхивал от Компота ни крика, ни ругани. Компот ни разу никого не ударил по причине крайнего своего добродушия. И, хотя драки среди солдат случались, Компота никто не бил по причине великанской его стати. Весь день Компот кашеварил, продуктов не воровал, сам стоял на раздаче, отпуская незлобивые шуточки, порции отмерял богатырские… Одним словом, Компота любили, и не было у него в части врагов и недоброжелателей.
До тех пор, пока на второй год Компотовой службы не появился в полку новобранец по прозвищу Нос. Этот самый Нос был юноша небольшого роста, но вертлявый и жилистый. В глазах, в повадке, в манере сплевывать сквозь зубы и во всей фигуре его была та особенная подвижная наглость, которая свойственна шпане и которую остановить могут только нож или пуля. А Носом его называли не потому, что он был Носов какой-нибудь, а потому, что нос у него был сломан, причем так радикально, как нельзя сломать кулаком, а можно только дрекольем или обрезком железной трубы.
Чуть ли не в первый день в солдатской столовой Нос просунулся вдруг по пояс в раздаточное окошко, сквозь которое Компот отмеривал товарищам плов с тушенкой, и потребовал, чтобы ему положили тройную порцию мяса.
– Как я тебе положу? – улыбнулся Компот. – Оно же с кашей перемешанное. Выковыривать, чи шо?
– Вон, вон у тебя мясо отдельно отложено! – кричал Нос, размахивая руками и указывая на плиту, где, по его мнению, стояло украденное у солдат мясо.
– Нема там ничего. – Компот даже подвинулся, чтобы продемонстрировать Носу пустую плиту. – Ты шо, сказився?
– Вон! Там! Есть! – Нос еще больше просунулся в раздаточное окошко и размахивал руками.
Он так размахивал руками, что опрокинул доску с хлебом. Тут впервые на лице Компота промелькнула тень раздражения. Он сказал:
– Хлопчик, улезь. Неможно же хлеб разбрасывать!
– Что? Чего не можно? Ты кому?!. Ты на кого?!. – верещал уже Нос, взяв интонацию блатной истерики.
– Неможно! – Компот положил конец спору и мягко толкнул Носа ладонью в лоб наружу из раздаточного окошка.
От этого мягкого толчка Нос вывалился в обеденный зал и шлепнулся на задницу. Упал и немедленно вскочил.