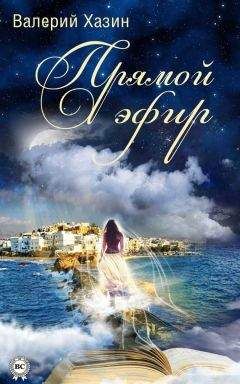Валерий Хазин - Труба и другие лабиринты
Знаком беды считали встречу с ним водоносы, птицеловы, волопасы, камнетёсы, мясорубы и виночерпии. Древорезы же и пивовары, костоправы и хлебопёки, землемеры и мореходы, напротив, верили, что такая встреча приносит удачу.
Вечерами Минотавр обычно сидел где-нибудь на отдалённых, тёплых ступенях, выдувая тоску из своей двурогой тростниковой дудки: там, где она звучала, всегда становилось безлюдно, поскольку все вокруг понимали, что Минотавр сбросил маску.
Ни речь, ни письмена, ни танец не давались ему, зато он лучше остальных освоился в Лабиринте – и потому был поражен, когда однажды столкнулся с чужеземцем там, куда раньше не случалось добраться никому из приезжих: напуганный собственным страхом, Тесей ткнул мечом в темноту и зарезал Минотавра одним ударом.
Ариадна, бедняжка, не знала об этом. Однако её старшая сестра Федра не могла не знать этого, когда вскоре сама покинула Кносс и отправилась на поиски Тесея – но не с тем, чтобы отомстить за убийство брата, а потому, что влюбилась в убийцу.
В землях Тесея Федра была с почетом принята и очень обрадована тем, что рядом с ним уже не было не только её сестры Ариадны, но и его первой жены Антиопы. Федра взошла на свободное ложе Тесея. Но и двух раз луна не обновилась, как Федру постигло несчастье: она влюбилась в сына Тесея и Антиопы по имени Ипполит. После того, как Ипполит отверг её, она выломала двери своего покоя и разорвала на себе одежды, обвинив пасынка в попытке совершить над ней насилие. На другой день, когда Ипполит мчался на колеснице по берегу моря, оскорбленный Тесей выпустил навстречу жертвенного быка. Перепуганные кони разбили колесницу и втащили запутавшееся в вожжах, мертвое тело Ипполита прямо на вершину холма к ногам Тесея.
Тогда, словно следуя за нитью своих сестёр, Акаллы и Ариадны, повесилась и Федра.
Но ещё до того, как Пасифая лишилась всех дочерей и оплакала Минотавра, погиб её средний сын Андрогей. Он победил соплеменников Тесея в состязаниях копьеметателей и колесничих, и завистники убили его на обратном пути в горах.
Ещё раньше она потеряла самого младшего – Главка. Гоняясь по дворцу за мышью, он заблудился, попал в кладовые, провалился в пифос и утонул в меду.
И только Катрей, старший сын Пасифаи, пережил отца, унаследовав трон и звание Миноса.
Между тем жители начинали покидать город и дворец, потому что после смерти Минотавра Пасифая повелела уничтожить все зеркала Кносса и запретила изготовлять новые.
Уцелело лишь бронзовое зеркальце Акаллы, забытое ею в груде игрушек и украшений.
Его-то и нашли случайно три дочери Миноса Катрея. Не зная, что делать с забавной вещицей, они опустили зеркальце на нитке в царский колодец и внезапно получили оракул, предсказывающий их отцу гибель от собственного потомства. Ужаснувшись, они рассказали об этом старшему брату Алтемену. Нимало не медля, Алтемен погрузился с сёстрами на корабль и отплыл с Крита.
Оглушенный бегством детей, Катрей решил было отправиться за ними в погоню, но, то ли опасаясь блужданий в проливах, то ли убоявшись надвигавшихся волн повторений, забросил свои царские обязанности, оставил дворец и поселился в прибрежных горах как простой козопас.
Он ещё не успел состариться, когда его сын Алтемен, пожелавший возродить обезлюдевший Кносс, высадился на берег Крита. Собаки, стерёгшие стадо Катрея, подняли лай, а сам он принялся отгонять незнакомца камнями и попал в него два или три раза. Алтемен же, упав и не докричавшись, метнул копьё и, не ведая того, сразил собственного отца, но и сам умер потом от отцовских ударов.
Ничего не осталось, Телемах, ничего от царского рода Пасифаи – ни на земле Кносса, ни на иных берегах. Никого из своих детей не уберегла моя тётка.
Может быть, поэтому, рассказывая о сестре, мать никогда не смотрела мне в глаза: она усаживала меня лицом к морю, подле своих колен, в изножье высокой скамьи из черного камня, и говорила медленно, глядя перед собой, поглаживая волосы на моем затылке, – говорила всё тише и тише, так что скоро слышался уже не шепот, но ветер, шевеливший складки её платья и смешивавший их шелест с шорохом сосновых игл над нами.
Это повторялось не раз, Телемах. Не раз и не два я выслушивал рассказ царицы Кирки о детях её сестры Пасифаи, моих – двоюродных, кажется? – братьях и сестрах. Но лишь однажды мать упомянула о том, что была у нее еще одна племянница, дочь ее старшего брата Ээта. Та самая, что бежала – ты знаешь – с аргонавтами и, спасаясь от отцовской погони, зарезала и вышвырнула в море собственного брата. Та, что гостила и у нас вместе с полюбившимся ей Иасоном, умоляя мою мать, свою тётку, Кирку очистить их от преступлений. Та самая, что погубила своих сыновей, когда Иасон бросил её, и стала потом мачехой вашего Тесея.
Но о ней, Телемах, тебе известно не меньше моего, и мне нечего добавить.
Да и стану ли поминать ту, чьё имя не позволено произносить над кормой плывущих кораблей?
Осмелюсь ли осквернять твою палубу и удлинять то, что хотел бы скоротать?
Прикажу ли собственной кисти кружиться и плясать теперь, на самом краю свитка?
Жрицы луны
Брату Телемаху здравствовать и радоваться!
Брату, – говорю я и вывожу обвыкшей рукой, и ты читаешь уже по привычке. Но разве кто-нибудь из нас знает своего отца? Разве не мучил и ты собственную мать ночными расспросами, разве не выходил от неё потом, отгоняя – вместе с дымами погашенных ламп – угрюмые мысли? Не говорил сам себе, что смертному проще разгадать оракулы, чем поверить в отца?
А ведь у тебя, Телемах, есть не только слова матери – у тебя одним доказательством больше. Тебе же рассказывали – не Пенелопа, конечно, но кто-то, кто-то же должен был рассказать, – о том, как Одиссей не хотел уезжать на войну. Когда за ним прислали, – говорили тебе, – он притворился безумным и, точно Иасон, принялся вспахивать плугом прибрежный песок. И пока он шагал за волами вдоль моря, опустел и дворец, и округа: все сбежались на берег поглядеть на безумие своего царя. Тогда, чтобы изобличить Одиссея, – тут говоривший, наверное, озирался и начинал шептать? – тогда кто-то из заезжих вождей выхватил тебя, едва получившего имя Телемаха, из рук Пенелопы, а, может быть, и оторвал прямо от материнской груди и бросил под ноги отяжелевших волов. Одиссей замер, и его обман был раскрыт.
Если это правда, Телемах, – а это очень похоже на правду, – тебе не в чем и незачем сомневаться. Значит, царь Итаки не хотел оставлять сына и был готов на любые жертвы. Сын единственный мог остановить его. И лишь потому Одиссей покинул Итаку, что не сумел принести в жертву сына.
Значит, не будь тебя, – если верить молве или моей матери, – никогда одиссеево семя не пролилось бы, чтобы зачать меня, в царствование Кирки, в ночи острова Эя.
И вот я, рожденный Одиссеем здесь, в дали, лишенной врагов, – с тех пор, как узнал об отце, не перестаю спрашивать себя: куда и зачем он плыл? Зачем против желания повел к чужому берегу дюжину кораблей? Зачем убил – на том берегу – двенадцать лучших воинов и разрушил Вилуссу, чьи стены, должно быть, день и ночь лежали пепельной тенью на лицах осаждавших, чье имя, непереносимое языком Итаки, день и ночь скрипело, словно песок, на их зубах? Что он обрёл в этой войне, когда, возвращаясь, потерял, один за другим, все свои корабли? Чего искал после, блуждая в проливах, чем томился, располагаясь на ложе моей матери, которую бросил потом ради новых блужданий и новых островов?…
Он опять уплывал всё дальше и дальше, и уже я изнурял себя, Телемах: как и ты, я испытывал мать, я проводил вечера в ореховой роще, вслушиваясь в шепот тамошних стариков, зажившихся и заезжих.
И теперь, когда разгадка кажется мне близкой, а твоему кораблю и вовсе недалеко до берегов Итаки, я могу рассказать – я расскажу тебе, Телемах, о жрицах луны.
Быть может, и ты слышал кое-что про четырех жриц, но едва ли догадывался, что с одной из них тебе доводилось встречаться, и даже говорить. Не стану притворяться: со мной случилось то же самое. И это простительно, Телемах. Ведь жрицы луны не открываются мужчинам. Никто не может сказать наверняка, в чем состоит их ремесло. Когда, как и почему они, а не иные становятся жрицами, – никому не известно. Пока слова стариков не улеглись в моей голове, словно письмена в свитке, – не знал и я.
И лишь услышав, будто бы каждая безотлучно живет там, где поднимается один из главных ветров, и не раньше, чем к нам на Эю стали долетать новые слухи о странствиях Одиссея, – лишь тогда, признаюсь, я начал понимать, почему эти ветры прошелестели мимо надо мной и тобой, но не миновали нашего отца, а подхватили и понесли, и несут до сих пор по проливам. Изумляясь, в одиночестве ночи, я произнес – как бы чужим языком – имена лунных жриц. Я повторил их трижды, одно за другим.
Первой была Елена.
И опять – нужно ли говорить? – всё началось с Тесея. Он осмелился сделать то, на что до него никто не решался: похитил Елену для себя прямо из дома её отца Тиндарея.