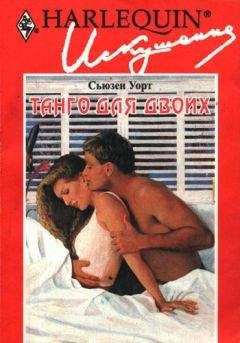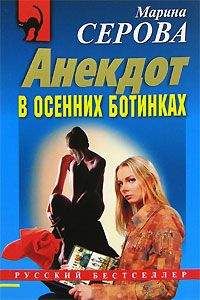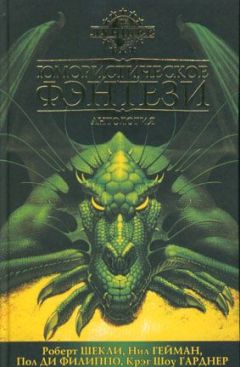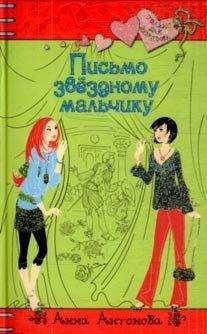Анна Мазурова - Транскрипт
Он пришел в себя оттого, что его постучали по плечу. Над ним, с утроенной деликатностью, склонился старый знакомый. Со стыдом Муравлеев отметил, что сидит лицом в угол, а как и когда развернулся, не помнит. «Вы свободны, пришлите счет, – говорил знакомый. – Ваш больной отказался спуститься».
Муравлеев вышел из корпуса и двинулся по направлению к машине, думая о своем больном, с которым так и не познакомился, но уже заочно гордился: такого надо выписывать, вот один изо всех с головой на плечах (что там даже трудиться спускаться на первый этаж, когда ясно любому, что так, поболтают, унизят и оставят в больнице). Тех, кто ходит на эти консилиумы, на что-то такое надеясь, этих точно следует запирать. А его больного, порвавшего цепь не просто нелепых (опасных!) иллюзий, – такого могли бы и выпустить. Он втянул в ноздри запах хвои, он дышал полной грудью, но странно, что-то здесь ни души, одни пустые машины, а он бы вывел их всех на прогулку. Вот терапия! В аллеях, парами, врач-больной, а завтра наоборот, чтоб никому не обидно. Досада берет, такой парк, и запах вивария почти не слышен: только небо, земля и старая хвоя. Не пускают их, что ли? Или они не умеют выйти? Ведь голова – не клетка.
Счет он, конечно, пришлет, но что-то во всем этом явно не так. И вдруг понял, чего ему так одиноко: он привык по судам, что после решения за ним должны гнаться, умоляя составить прошение, объяснить, что же все-таки произошло, или немедленно позвонить по телефону, где знают, чья кошка собаку съела. Здесь же никто не гнался. Ни один политзаключенный с открытым письмом, ни один экстрасенс с романом-предупреждением, а между тем должна же здесь быть своя интеллигенция, палата, как принято выражаться, номер шесть (Муравлеев так выучен был, что в любом муравейнике, где солдаты, рабочие, фараон, должна быть интеллигенция). Как каждый раз, застав чужую профессию в халате, он убедился, что быть сумасшедшим нестрашно, небольно и неинтересно. Быть сумасшедшим, в первую очередь, скучно – каждый день, шаг за шагом, перебирая руками по одной и той же цепи рассуждений, упираться в единственный вывод, который – никуда не выводит, а просто кончается цепь.
Так, никем не преследуемый, он дошел до машины, завелся и съехал с хвои. Просыпаться утром и знать, что сейчас все будет по-старому. Депозиция, Павлик, транскрипт, поясница и шея по Рихтеру в десять баллов – а надо как-нибудь по-другому, перевернуть блокнот вверх ногами, писать справа налево и левой рукой, по диагонали, в зеркальном своем отражении, или выучиться стенографировать, чтоб триста раз, когда переводишь, не делать одни и те же пометки, или… да выучился он давно уже стенографировать! Вот это все может записать одним крючком…Или хотя бы давайте сменим цитатник. Что в истории слышно? Кто может – грабит, кто не может – крадет. Проблемы? Две. Дороги и дураки. Демократия? Есть плохая форма государственного устройства, только лучшей пока никто не придумал – бросать курить совсем не сложно, я сам это делал множество раз. Ну, выучили эти десять, давайте еще теперь какие-нибудь десять выучим. Следующие. И так, постепенно… Мы же все будем знать. Кто что сказал. Давайте сделаем ремонт – переклеим, перекрасим, самим же будет просторней, чище, светлей, мы тут все засалили, засрали, затерли… Впрочем, не ходи все живое предсказуемыми путями, как бы мы переводили? Как сбывали бы с рук этот фокус – не секундное отставание, как кажется со стороны, а надежное опережение чужой мысли и речи? Давайте сменим цитаты – и что? И я пойду по миру с рукой? Здесь у меня уж хозяйство налажено, заточен Киплинг на «восток дело тонкое», и вообще… С ходу-то и не сообразишь. А сколько других, видимо, есть профессий, столь же зависимых от повторяемости, как моя – и что, всем на свалку? Нет, не будет ремонта, в этой вонючей, пролежанной дыре нам всем придется помирать…
Фима резко вскочил, налил коньяку в два бокала и, прижав их фигушками к груди, как когда-то обозначал определенный тип девушек, пошел проталкиваться к дивану, туда же проталкивая Муравлеева. Он пронес бокалы нерасплесканными, но, сев на диван, забыл и о них, и о Муравлееве. Теперь он держал их в вытянутых руках, опустив на журнальный столик, и машинально поглаживал пальцем стекло. Склонив голову, он со странным оскалом рассматривал толпу беснующихся гостей. Были все те же: фимина теща и Ебаный-В-Рот (далее «ЕВР»), где-нибудь в ванной, подкрашивая съеденные поцелуями губы, до поры до времени притаилась ДБС, а судя по двум противням куриных ног, в гости ждали и Л: ее не прокормишь, такая… бой-баба. (Муравлеев всегда удивлялся, как слово бой-баба лишено голливудских и педофилических коннотаций, а Л, обглодав, всегда возмущалась, что косточка – черная: «Вспомните, какая у нас была косточка! Белая-белая!») Фима быстро очнулся и подал Муравлееву кровавый янтарь, успокоившийся в бокале, потеплевший от фиминых пальцев.
– На! – сказал он ворчливо. – Давай выпьем за нашу дружбу.
Они отпили по глотку.
– Поразительно, – с неприязнью сказал Фима. – В старении самое отвратительное – это чувствовать себя дураком. Ведь вот каждый из них знает про тебя нечто, чего ты сам о себе не знаешь.
Фима почти откровенно ткнул пальцем в очень молодого человека, пораженного той болезненной хилостью, когда лицо из последних сил на весу держит нос. Это был чей-то сын или внук, но никак не клон. Похож? Конечно, похож, и тысячу раз видан, но – методом минимальных, микроскопических, пар – не тот. Во-первых, намного моложе…
– Смотришь на себя в зеркало и думаешь: ничуточки не изменился. А между тем каждый из них – каждый! – видит. По-моему, чудовищно.Тихий ангел пролетел. Тихий демон, скопленье теней, русалок, голосами серебряными, как колокольчик, пересмеивающихся по ветвям, комната вдруг наполнилась ими, Муравлеев услышал всплеск волос в отдаленном углу, у себя за спиной, под носом, они постоянно меняли место и тихо смеялись. Это напоминало игру в жмурки, то и дело русалки подставлялись под руки, но, хватая, гости зачерпывали воздух. Муравлеев видел, как неумолимо сближаются двое, и, зависнув над их головами, тут же являлась русалка. Чтобы схватить, достаточно протянуть руку, кончик ее хвоста щекотал ноздри, в предчувствии удачной охоты те двое, сходясь, улыбались, неловко краснея от счастья, но при первой же фразе: «Ну ты как вообще, чего?» русалка с тихим серебряным смехом, похожим на плач, снималась и отлетала. Мужественно стиснув зубы, они продирались сквозь дебри недавнего гриппа, плечом к плечу сквозь студеную скуку, и ни один не смел сказать: я говорил с тобой по ночам и там, во сне, ты отвечал другое.
Это тело моего друга, с которым я больше никогда не поговорю. Я сижу за блинами и оливье, опасаясь, как всегда в таких случаях, смотреть на ветчину, и отдаю последнюю дань, включая и то, что заваливается за подкладку, и готов отдавать еще лет двадцать-тридцать (дай нам всем Бог здоровья!) и лично возить в орду. Лить здесь слезы мне не по чину – за столом и мать, и жена, и любовница, держащиеся молодцом, потому голосить об утрате мне, человеку, лишь однажды видевшему юбиляра… собственно говоря, живым, было бы дерзко и непочтительно к чужому горю.
Они пили, кричали тосты, и теперь серебряный смех был почти и не слышен, заморили уже червячка, затравили тихого ангела, общались вовсю – бодрствующие рожи, смеющиеся рты, сознательные позы, разинутые глаза…
Но от одного слова «горе»… нет, не так по углам звенели русалки, вздымался сквозняк, поднимались торчком усики под носом самых красивых женщин, не так они пели, а по-другому – настолько, что Муравлеев секунду был сытым, счастливым и пьяным. Упоенным. Ведь все-таки было! Пусть лишь несколько раз, это все же не секс, который можно наладить два раза в неделю. Это редкое, уникальное явление природы, как какое-нибудь затмение, совпаденье сияний и дисков, астрономическое чудо – будь счастлив тому, что удачно родился. Есть музыка, о которой никогда не узнаешь ни названия, ни композитора. Пальмы, цветущие раз в семьдесят лет. Крепость, куда по несчастному совпадению попал во время отлива и не нашел ничего особенного. Книги, прочитать которые все равно что выучить новый язык, продираясь слово за словом, осваивая фрикативные и взрывные, и вот, когда этот язык ты почти уже выучил, можешь общаться, приблизительно понимаешь, книга тут же кончается, и говорить на этом с трудом освоенном языке уже не с кем. И дело не в том, что все они умерли (они не все давно умерли), но если встретиться с ними не в книжке, обнаруживаешь, что сами они этим языком не владеют, несвободно, и первые же удивятся, если ты вдруг залопочешь на том, фрикативном… И потому счастье хоть раз совпасть – это чудо. Поговорить на одном языке без несносного переводчика, без Муравлеева, пропускающего целые периоды оттого, что в уме умножал беседу на почасовую ставку, – это чудо, золотая удача, след которой, золотая пыльца, золотая печать, навсегда остается на лбу постороннего человека, которого с тех пор зовешь другом и с которым никогда больше не поговоришь.