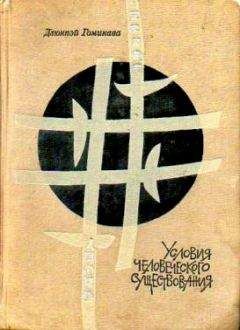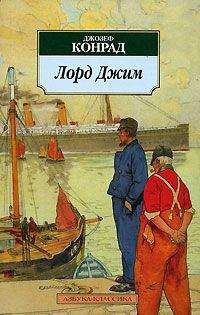Алексей Макушинский - Пароход в Аргентину
Intendente Belongo, Пабло Гассман, тогда еще совсем молодой, с живыми южными глазами – и больше я не вижу никаких персонажей в их рио-давской жизни. Одиночество им, по-видимому и наконец, надоело; с 1956 года все больше времени они проводят в Буэнос-Айресе; в 1957-м окончательно туда возвращаются. К тому же все самое главное было в Рио-Давиа если еще не построено, то уже спланировано, задумано, начато; intendente, после свержения Перона начавший терять влияние, ушел в отставку, удалился на свою – настоящую, отнюдь не шуточную – эстансию, где и умер поздней осенью 1959 года, за несколько месяцев до отъезда своего придворного архитектора обратно в Европу. Куда уже давно не придворный архитектор поначалу, похоже, уезжать и не собирался, предполагая, по-видимому, вести свои все более международные дела – в 1958 году впервые летал он в Нью-Йорк, оттуда в Торонто – из любезного его сердцу, как в одном месте своих записок выражается он, Буэнос-Айреса, где у него было свое бюро, созданное, как кажется, не без помощи оставившей университетское преподавание, но и не желавшей превращаться в мать, жену и домохозяйку Марии, которая, взяв на себя практическую сторону дела, переписку с заказчиками и заполнение налоговых деклараций, случилось все же, что и переходила на другую, солнечную сторону; так, во всяком случае, выражается уже цитированный мною выше Жан Лаваль, описывая, конечно, уже более поздние, парижские годы; вдруг, когда А.Н.В. уж слишком долго стоял перед каким-нибудь макетом, передвигая все одну и ту же стенку чуть-чуть вправо, затем чуть-чуть влево – а он, бывало, часами простаивал так, пишет Лаваль, не обращая внимания на то, что происходило вокруг, – становилась рядом с ним, сощуривала глаза и сладострастно, пишет Лаваль, почти развратно ухмыляясь, передвигала ту же стенку еще как-нибудь совсем по-другому, чего, разумеется, никто, кроме нее, сделать бы не решился. В бюро в Буэнос-Айресе царили, наверное, схожие нравы. Портрет совсем другого Лаваля висел в доме Марииных родителей, о котором (доме) я знаю только, что находился он (и находится; Вивианины кузены, племянники и дети племянников до сих пор живут там) на севере города, в том же районе Belgrano, где (несравненно более скромно, конечно) жил и Владимир Граве, недалеко от Avenida Crámer, точно так же, как я почти ничего не знаю о самих этих родителях – А.Н.В. не пишет о них, от Вивианы же сколько-то внятных сведений об ее бабушке и дедушке я так до сих пор и не добился, как бы ни надоедал ей электронными письмами (вчера, сегодня, неделю назад). А.Н.В. упоминает лишь портрет другого Лаваля, генерала Хуана Лаваля, одного из героев (или злодеев) ранней аргентинской истории, тоже и в свою очередь переходившего с Сан-Мартином через Анды, участвовавшего в неудачном перуанском походе, затем прогнавшего (и казнившего) одного губернатора Буэнос-Айреса с тем, чтобы самому быть изгнанным другим губернатором (еще большим злодеем) де Росасом и как-то очень страшно, очень глупо погибнуть на севере, недалеко от боливийской границы. Полагаю, что А.Н.В. занимала в первую очередь перекличка имен; все-таки, срисовывая этот портрет в один из своих узких блокнотов – скуластое лицо с черной бородкой, эпические эполеты, аксельбанты, оргия орденов – он не мог не думать, наверное, как и я сейчас думаю, о прелести чужих преданий, очаровании чужой истории, истории, которая еще так недавно ничего не значила для тебя, с которой ты вдруг вступаешь в неожиданные, почему-то волнующие тебя отношения; могу представить себе, с каким удовольствием слушал он рассказы своих тестя и тещи о бегстве какого-то легендарного предка вместе с этим генералом Лавалем в Монтевидео, откуда пытались они снова свергнуть набиравшего силу де Росаса. Для Марии, во всяком случае, эти семейные предания явно значили больше, чем, может быть, она сама готова была признать; мы – унитаристы, несколько раз пишет она своей английской подруге; ты знаешь, как мы, унитаристы (we, the Unitarians) относимся к военным варварам из провинции, так что уж лучше и не спрашивай меня об нынешней поганой политике; в послепероновской Аргентине все это, полагаю я, могло быть лишь ироническим анахронизмом, не совсем, наверное, понятным корреспондентке.
Вновь всплывает тема кафе, ни разу не звучавшая в Рио-Давиа, как если бы никаких кафе там и не было, а были только стройки в городе, и бесконечное сидение над чертежами, и бесконечное одиночество так называемой их эстансии, их пустынное море, их не тронутый миром берег. Конечно, и здесь работает он с утра до вечера, наверстывая упущенное, все же они находят время для той городской столичной жизни, от которой за пять лет успели, должно быть, отвыкнуть, которая тем большее удовольствие им теперь доставляет. Мария, никаких стихов не писавшая, не чужда была, я так понимаю, буэнос-айресским литературным кругам, с которыми связан был некогда ее первый, недолгий муж, критик и журналист; конечно, и в этой среде Александр Воско своим себя не почувствовал; он ни в какой среде не чувствовал себя, похоже, своим; все же литературные кафейные сборища, горько и сладко напоминавшие ему русский Монпарнас (четверть века тому назад, в другой жизни), посещал охотно, временами спрашивая себя, должно быть, как мы все себя спрашиваем, когда думаем о тех, кого любили, кого потеряли, не смотрит ли на него сейчас Нина, откуда-то, вот из того окна, внезапным дождем залитого, как слезами, вон из того зеркала, подернутого патетической патиной. В его бумагах сохранились списки слов на перевернутом языке, который распространен, как я выяснил, в Аргентине, в столице особенно, почти так же, как распространен в Париже verlan; хулиганский и модный язык этот здесь называется vesre – перевернутое revés, наоборот. Кафе (café) превращается в feca, начальник (patron) в tronpa, жара (calor) в lorca. Не Верлен, но Лорка здесь смотрит, значит, из-за угла… Все это прелестно, конечно, и не менее утешительной была для него возможность, после аргентинских литературных посиделок, после разговоров о Мартине Фьерро и его значении для современной словесности, о Виктории Окампо и o журнале Sur, перейти в другой мир, в свой мир, зайти к Владимиру Граве, к его второй жене, по-прежнему безымянной для меня, как и первая, боюсь, что навсегда уже для меня безымянной, в отличие от первой (см. следующую главу), но все так же отменно готовившей и борщ, и вареники, и солянку, и кулебяку, сыграть с Владимиром в шахматы, поговорить с ним о преднапряженном бетоне и об их лодочных экспедициях на реке Курляндской Аа. Все-таки они уехали, Мария и он, с трехлетней Вивианой, в шестидесятом году, угнетаемые, должно быть, беспросветной аргентинской политикой, маскарадною сменой хунт и диктаторов, из южноамериканской провинции стремясь в большой и свободный мир, совершенно так же, в сущности, стремясь в него, как он, Александр Воскобойников, тридцать лет тому назад стремился в большой мир из провинции родной и балтийской, с той, впрочем, разницей, что этот мир был теперь готов к появлению знаменитого архитектора, знаменитый же архитектор мог делать в нем, строить в нем что хотел, где хотел. Замечательно все-таки, что они выбрали Париж, не Лондон и не Нью-Йорк. Не думаю, что французское гражданство А.Н.В. сыграло какую-то роль в их выборе, скорее, кажется мне, их не общее парижское прошлое, у Марии недолгое, у Алехандро длительное, несчастливое, но, может быть, именно потому и звавшее его обратно, как если бы он хотел доказать себе и этому городу, что жизнь в нем может все-таки повернуться иначе, постаревшим, но победившим Растиньяком возвращаясь, значит, в Париж, смеясь, конечно, над собой и над этой мыслью, если она пришла ему в голову (не могла, наверное, не прийти), но еще и потому возвращаясь туда, я думаю, что как-никак у него там был сын, его чуждавшийся в детстве, десять лет им не виданный и вскорости сам уехавший, кстати, в Америку, но все-таки сын, начинающий архитектор.
Глава 14
Kommt, reden wir zusammen,
wer redet, ist nicht tot…
Большая выставка работ, чертежей, рисунков и фотографий Александра Воско, приуроченная к 110-летию со дня его рождения и организованная упомянутым выше, столь нелюбезным его дочери обществом его друзей, открылась в парижском Музее архитектуры в марте 2011 года; я, конечно, на это открытие съездил, благо в марте в немецких университетах каникулы между зимним и летним семестром. Там были известные, были и не известные мне чертежи, фотографии и рисунки; среди них замечательный, никогда мною прежде не виданный проект перестройки мюнхенского «Дома искусства», с приложением отпечатанного на машинке письма – не кому-нибудь, а прямо Францу-Йозефу Штраусу, тогдашнему (письмо датировано 1981 годом) баварскому премьер-министру, с которым А.Н.В., как из текста явствует, был знаком. Памятники тоталитарной архитектуры, не только нацистской, но и советской – о советской, впрочем, говорить еще рано, пишет он (в 1981 году…), так что поговорим о нацистской – эти памятники, по его мнению, сносить ни в коем случае не следует, тем более если речь идет о столь значительной и удачной – с чисто архитектурной точки зрения – постройке, как «Дом (немецкого) искусства» Людвига Трооста; но и просто так стоять, посреди демократического нового мира, они, считает он, не должны. Их следует, по его глубочайшему убеждению, как-то так перестроить, чтобы ясно показать наше несогласие с ними, в то же время не уничтожая их эстетической ценности. Он очень рад, конечно, что в бывшем «Доме немецкого искусства», где нацисты устраивали свои чудовищные официальные выставки, теперь выставляют тот самый художественный авангард, который подвергался таким преследованиям в «коричневые годы», но само здание по-прежнему говорит на другом языке, грозовом языке, и никакие, к примеру, плакаты, никакие рекламные вывески, с их кричащими красками, которыми руководство музея как будто пытается зданию ответить, своей цели не достигают, перекричать его не могут, а только уродуют его самым непростительным образом. Нет, здесь требуется решение радикальное, решение, которое сочетало бы в себе отчетливое политическое с убедительным художественным высказыванием. Такие здания должны быть отчуждены от своего первоначального смысла и замысла, своей исходной интенции, пишет он, используя немецкое понятие Verfremdung, которым обычно переводят формалистское «остранение»; термин, я полагаю, отлично ему знакомый. Он еще не пишет о «деконструкции», о которой, если я правильно понимаю, архитекторы заговорили только после знаменитой нью-йоркской выставки 1988 года (А.Н.В. на эту выставку уже не поехал, хотя устроитель ее, Филип Джонсон, и приглашал его очень настойчиво…); не пытается и описать свою идею словами, больше полагаясь, очевидно, на рисунки, вместе с письмом посланные им Штраусу; на рисунках этих шедевр нацистского зодчества является в стеклянной изломанной иронической оболочке – было трудно, в самом деле, удержаться от смеха, глядя на все это, – сквозь которую отлично видны и парадно-победительные колонны, и мощные плиты портика, и двери, предназначенные для арийского сверхчеловека, – оболочке, улетающей вверх, прямо в небо, точней – в небо, но не прямо, а косо, так что воображаемая вершина ее, пункт схождения всех линий, оказывается уже не над самим зданием, а где-то сбоку, чуть ли не над протекающим по соседству буйным ручьем; стеклянные же – не колонны, но скорее пилястры, цитирующие и отражающие каменную колоннаду, тоже, соответственно, уходят вверх не прямо, а косо, и не параллельно друг другу, а стягиваясь, или стремясь стянуться, в пучок, не дорастая до воображаемой вершины, но в самом стремлении этом преодолевая, ломая торжественную тяжесть проступающего сквозь игру их граней оригинала… Ответ Ф.-Й. Штрауса, очень вежливый, был выставлен тоже. Он находит идею мастера в высшей степени оригинальной и остроумной и готов всячески содействовать если не прямо осуществлению ее, то, во всяком случае, ее плодотворному общественному обсуждению, без которого она, конечно, осуществлена быть не может. Все же инициатива такой дискуссии должна исходить от городских властей, которым – конкретно: отделу культуры мюнхенского муниципалитета – письмо и рисунки уже переданы. С уважением etc. Что было дальше, не сообщалось, никто из присутствующих, ни Вивиана, ни Пьер Воско, не знал этого. Городские власти, похоже, предложением не вдохновились.

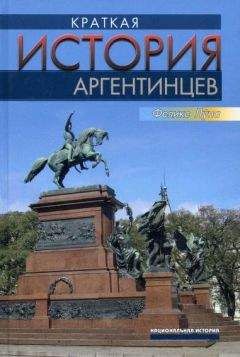
![Нильс Хаген - Охота на викинга [роман]](/uploads/posts/books/126886/126886.jpg)