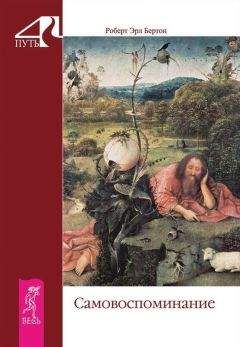Ульяна Соболева - Пусть любить тебя будет больно
Пока не увидела его и не остановилась. Ни одного вздоха опять, и глаза уже не печет, а жжет, а я моргнуть не могу. Глотаю, а в горле пожар. Я бы не могла сказать ни слова, даже если бы хотела закричать. И я хотела, даже схватилась за горло. Первый вздох – и начинаю задыхаться.
Не вижу его всего… только глаза. Только взгляд. Отчаянно-дикий, сумасшедший, как у психопата. Мне кажется, у меня сейчас точно такой же. Приближается ко мне. Я чувствую, как подбородок дрожит, и я поручень сжимаю так сильно, что уже не чувствую пальцев. Они онемели.
Подошел совсем близко, я на лицо посмотрела и ослепла. То ли слезы мешают, то ли темно везде, и сама не понимаю, как руку тяну, трогаю скулы колючие. Он не мешает, только сам в глаза смотрит.
Я не знаю, сколько мы так ехали. Молча. Глядя друг другу в глаза. Мимо нас люди проходят, толкая меня и его, а я то снова слепну, то жадно пожираю взглядом каждую черточку: впалые щеки и круги под глазами, и волосы коротко остриженные, лихорадочный блеск глаз.
Мир вокруг растворился, его разъело на невидимые атомы. Все вокруг черно-белое… и только он цветной. Яркий. Настоящий. Живой.
– Куда мне теперь пластырь наклеить? – сама свой голос не узнала, продолжая трогать его лицо до изнеможения, до какой-то лихорадочной потребности касаться и касаться, а он вдруг улыбнулся и руку мою перехватил, положил к себе на грудь. От его улыбки мне захотелось разрыдаться.
– Наклей сюда… сможешь? – у самого голос сорвался.
Кивнула и медленно голову ему на грудь склонила, а под щекой сердце бьется слишком громко, заглушая шум собственной, особой музыкой.
Чувствую, как волосы перебирает и запах вдыхает, целует пряди. Прижалась к нему сильнее и глаза закрыла.
– Не умею без тебя, – снова голос свой не узнаю… да это и не важно.
– Не умеешь!
– Не могу!
– Знаю. Не можешь.
– Почему? – спросила то ли у него, то ли у себя.
– Не знаю. Два года у себя спрашивал – почему? Но так и не понял.
Прижалась сильнее, захотелось срастись с ним в одно целое, просочиться через кожу невидимыми нитками, пришить себя к нему. Чтоб больше не мог вдали от меня.
– Не понимай. Когда поймешь – это уже будет не про меня.
– Не хочу понимать, – сжал до хруста, впился в волосы, сильно прижимая к себе, – любить тебя хочу, все хочу, заново хочу. Сначала. Вот с этого момента и по-другому. Дашь мне шанс?
– Нет.
– Ни единого? – больно волосы перебирает, то сжимая, то поглаживая хаотично, словно сам на грани какого-то срыва.
– Ни единого. Ничего не заканчивалось, чтобы начинать сначала. Просто продолжай, где остановились. Все мое. Все, что было, мое. Не откажусь ни от чего. Ни от одного кусочка нас. Ни от одной секунды с тобой.
Вдруг поднял мое лицо, обхватив обеими руками:
– Я писал. Не отправил ни одно, но писал. Каждый день мысленно писал тебе письма. Я точку не мог поставить. Понимаешь? Я боялся написать и поставить точку.
– Я их не ставила никогда, – тереться о его ладонь щекой, закатывая глаза от наслаждения и тут же открывая, чтобы смотреть на него.
– Ни одной?
– Ни одной.
Гладит мои щеки большими пальцами, а я тону в его отчаянном безумном взгляде. Лихорадочном, как под наркотиком.
– Значит… сын у нас?
Слегка кивнула и проглотила слезы… а они сами по щекам потекли.
– Прости меня.
Сама спрятала лицо у него на груди.
– Не говори «прости». Не нужное. Лишнее. Просто пойдем дальше. Вместе.
– Доверяешь?
– Я научусь снова.
Металлический голос объявил конечную станцию, и мы вышли из вагона.
– Поехали домой, – тихо попросила, а он мои руки целует.
– Я дома. Увидел тебя, прижал к себе и понял, что дома.
– Пусто без тебя.
– Я вернулся. Я всегда возвращаюсь.
– Ты не обещал. В этот раз.
– Не обещал… но я невыносимо домой хотел. К тебе хотел, Оксана.
24 глава
Руслан
Да, я не писал ей письма. Я их говорил про себя. Говорил с ней каждый день и каждую ночь. Вокруг грязь, дно, болото, а я о ней думаю, и жить хочется дальше, только потому что она есть.
Не открывал её письма. Ни одного. Боялся – сорвусь. А я решение принял. Самое верное и самое неэгоистичное за всю свою жизнь. С мясом отодрал и не хотел резать на живую незатянувшиеся шрамы. Взаперти многое переосмысливаешь. Время думать есть. Слишком много времени. И у меня как посттравматический синдром: перед глазами дети на складе, взгляд Оксаны там, возле трупа Нади, и слова её, чтоб лучше умер и не возвращался к ним никогда. У меня эти кадры на перемотке. Только три и в одном и том же порядке. С осознанием, насколько она права, и пониманием, что мог их всех потерять.
Анализировал детали, и становилось ясно, что нам всем просто повезло. Один шанс на миллион. Все должно было кончиться катастрофически. Не знаю, кто там на небе или в дьявольской бездне решил иначе, но мы выжили. Возможно, для того, чтобы я понял, насколько они все дороги мне и на что я готов ради них. Что местоимение «Я» теперь на самом последнем месте, как ему и положено по алфавиту. Да и что значу я в сравнении с ними? Не позволю больше так. Никогда.
И яростно отсылал письмо обратно. Мысленно умолял больше не писать. На колени становился. Не пиши мне, родная, отпусти меня. Себя отпусти. Что ж ты рвешь меня письмами этими? Что ж ты меня надеждой проклятой не отпускаешь? Живи дальше, черт тебя раздери, живи, а мне дай сгнить здесь. Я ж ради вас… Не себе. Не мешай.
Иногда я её ненавидел. За вот эти регулярные пытки белыми конвертами, за то, что ломает, прогибает, не дает очерстветь, смириться. Держит так крепко, что я эти крючья чувствую до костей.
Да, я их вдыхал. Подносил к лицу и дышал ими и ненавидел. Дышал ее письмами. Глаза закрою, а там каждая картинка одна невыносимей другой, и выть хочется, порвать на клочки, до мелких обрывков, и тоже не могу.
Это как ей снова больно сделать. Ударить. Я предостаточно ее бил в последнее время. Я калечил нас обоих с маниакальной тщательностью. Отшвыривал ее от себя и рычал от боли из-за расстояния, знал, как ей больно. Чувствовал. Но так надо. Я обязан. Должен. Иначе потеряю. По-настоящему. Необратимо. Лучше потерять так, чем похоронить. Лучше знать, что она счастлива, жива, дышит, улыбается. Пусть не со мной. Да, пусть я сдохну сам от ревности, но она должна жить. И дети наши. Не прятаться всю жизнь, а именно жить. Ее бывший муж был бы им неплохим отцом. Бл***ь. Представлял, как Руся другого называет папой, и скрежетал зубами, руки в кулаки до хруста, и головой о стены биться хочется. Детей ревнуешь, как и любимую женщину, с той же дикой болью и отчаянием от того, что обязан принять их новый выбор. Смотреть издалека, знать, что растут где-то, любят другого мужчину, раскрывают объятия, называют отцом.
Чувство собственничества равносильно помешательству. Словно душу свою подарил какому-то ублюдку, отдал в руки самое дорогое. Добровольно. Я придумывал их сам. Других мужиков. Самых разных. От водителя такси до крутого мачо. Представлял, как Оксана улыбается кому-то, поправляя волосы за ухо. Как в кафе идет с ним (эфемерным без лица и возраста). Как домой приводит и манит взглядом. Теперь я точно знал, от чего люди сходят с ума. Никаких детских травм, никакого психологического надлома. Достаточно просто отдать свою женщину, развалить семью, чувствовать себя виноватым в том, что сделал их несчастными.
Отсылал письма обратно, скрипя зубами и придумывая их содержание по ночам, зажимая заточку в пальцах, готовый в любой момент к подлянке. Меня могли достать где угодно, даже здесь. Несмотря на «крышу» от Ворона и уважение сокамерников. Смотрел в темноту под храп соседей по камере и придумывал её письма. Какими они могли быть. Что она пишет мне о себе? Может, ненавидит и проклинает. А может, нашла другого или вернулась к мужу. Вот почему читать боялся. Думал, пройдет пару месяцев – устанет писать. А она – регулярно, иногда несколько подряд. И я начал их ждать. Отсчитывать ими каждый день. От письма до письма. Иногда в руках каждую ночь держу, а потом обратно отправляю через месяц. Кто-то назовет это силой воли, а я называл трусостью.
– Кого ты там динамишь, Бешеный. Течет баба по тебе, а ты игноришь? Или гонять лысого больше прет, чем телку трахать?
Сокамерник скалится, кивая на письмо, а мне кажется, он эти буквы на конверте одним взглядом испачкать может, и уже хочется глаза выдрать, чтоб не марал.
– На хрен пошел, Дрын! Не суй нос, куда не просят – ноздри порву! Не нарывайся!
И заточку сильнее сжимаю, примеряя, куда всадить так, чтоб больнее и мучительней сдох, а у него глаза бегать начинают. Знает, что способен. Да и он не лох какой-то, но цеплять не хочет.
– Да ладно. Не заводись. Мы тут, бл***ь, о бабах мечтаем, с шалавами знакомимся, лишь бы сунуть хоть в кого, а ты динамишь свою постоянную. Или с бл*дями больше нравится?
Не нравилось больше. Трахать не хотел никого. Пахан иногда подгонял своим за особые заслуги. Типа родственница, жена, невеста. Притом одна на пару зэков. Менты глаза закрывают. Им по хрен, они свое получают за это. И мне подгоняли. О здоровье заботились. Я и так дерганый, мне спускать надо, а то на хрен замочу кого-то и засяду пожизненно. Мне все равно было. Что там на воле? Оксана чужая? Могилы родителей? Бизнес похеренный? Та же тюрьма, но без решетки. Да и натрахался я с кем попало на лет сто вперед. Бывало, иногда о Ней вспоминал, или приснится голая на постели, с ногами в стороны раскинутыми, блестящая от возбуждения, и яйца от боли сводит. Её хочу. Или на хрен никого.