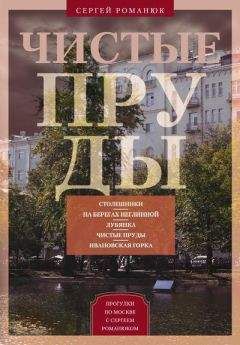Анна Бердичевская - КРУК
Они брели, теплые от водки и шашлыка, по безлюдному городку, по рассекавшей его неширокой дорожке, выложенной в шахматном порядке серыми и белыми плитками. Наконец замерцал впереди некий остров света, и даже негромкая музыка полилась, какой-то фокстротик легкомысленный. Блюхер оглянулся к спутникам и радостно сообщил:
– Не иначе – подарок Санта-Клауса! Рождество, каникулы… заведение не должно бы работать…
Он уже бежал мелкой рысцой, и спутники припустили следом, любопытствуя, что там светится в потемках. Оказалось, что светится типичная советская «стекляшка»: плоское здание со стеклянными витринами вместо стен.
– Здешняя столовка! – крикнул, добавляя ходу, Блюхер. – И местный клуб.
Все было почти как дома. Однако стекла были абсолютно чистые, их и видно практически не было. А входная дверь – вращалась. Но публика, но музыка! Хрипло, как с древнего патефона, звучала «Рио-Рита», а люди говорили по-английски или по-русски, да хоть бы и по-японски, но народ, безусловно, был родной. Чанов научных ученых с юных лет наблюдал на всякого рода отцовских сборищах. На закрытых торжествах, где отцу вручали награды и премии, или на юбилейных заседаниях в институте, где отец сидел в президиуме, а мать с детьми в партере, на академических тусовках в ведомственных домах отдыха… А вокруг – физики. Мало пьющий, но пылкий народ, смеющийся и ссорящийся о непонятном… горячие холодные умы… Ни с чем не спутаешь.
Сотни две таких вот мужчин сидели за столами с пивными кружками и пластиковыми тарелками, на которых золотился картофель фри.
– Блюхер! – окликнул Василия Василиановича длинный парень. – Вот не ожидал! Сюда давай!
Блюхер радостно кинулся на зов. Парня звали Слава, он запросто говорил Блюхеру ты и Вася, а спутникам Васи крепко пожал руки, даже не глянув в лицо. Вася со Славой заговорили, как в пинг-понг бросились играть.
– Когда приехал? – Сейчас. – Что нового на Плюке?[27] Грид гридится? – Да ну его! Не гридится ни хера. Вот приехал с Робертом посоветоваться… А что «Атлас»? – Ползет по-тихому. Ты Кульбера видел? – Сейчас от него. А ты в Гатчину так и не съездил? – Не отпустили…
Не только Длинный Слава, но и Большой Вася забыли про Кузьму Андреича и Давида Луарсабыча. Минут через десять Дада и Чанов переглянулись.
– Где здесь гостиница? – крикнул Давид в затылок Блюхеру.
– А что? – Вася глянул невидящим взглядом и снова повернулся к Славе.
Дада, как Дата Туташхиа, встал, навис над Блюхером небритым лицом абрага и негромко произнес:
– Хочу помыться и лечь. – Он посмотрел в невинные глаза Блюхера и добавил заклинание: – Шени деда моветкан…[28]
Блюхер улыбнулся, достал пластиковые карточки CERN и сказал, уже отворачиваясь:
– Через четыре дома по главной дорожке направо, до пузырьковой камеры, за нею корпус номер восемь… – и снова обратился с вопросом к метавшему в щербатую пасть жареную картошку Славе из Гатчины.
Дада и Чанов вышли. На улице стояла окончательная ночь, в разрывах облаков зажглись звезды. Кузьма Андреич и Давид Луарсабыч шли «направо по главной дорожке». Между двумя одинаковыми домами они заприметили посверкивающее в свете дальних фонарей сооружение, очень напоминающее самовар, остановились. Чанов подошел, встал на цыпочки и шлепнул никелированный цилиндр по боку. Загудело, как и положено в пустом латунном самоваре. Обойдя сооружение, Чанов не обнаружил краника для кипятка, но набрел на каменную табличку, лежащую на газоне. Надпись была на английском.
– Что-то про пузырьки, – перевел Давид. – Типа «резервуар для пузырьков».
– Угу, – подтвердил Чанов, – самовар, он и в Швейцарии самовар.
В конце надписи стояла дата: 1975 год.
– Вещь древняя, – сказал Дада, – я еще не родился…
Они постояли, подумали невесть о чем и пошли к темному зданию, на углу которого разглядели в свете экономного фонаря метровую цифру 8.
Шкатулка
Чанов лежал в темноте на узкой и чуть коротковатой кровати, упираясь пятками в деревянную спинку. Свет пробивался с улицы все от того же тусклого фонаря. Номер был совсем маленький и без особых примет. Вообще без примет. Разве что – жалюзи на окне. Спать не хотелось.
Только что принятый душ смыл маяту первого дня путешествия, все без разбору смыл – и мусор, и проблески тайны, и знаки будущего, которые Кузьма всю жизнь, с детства всегда невольно улавливал, особенно когда пускался в какую-нибудь дорогу. Он без сожаления чувствовал, что забывает сегодняшний день. Лежал – и все. Не думал и не мечтал. Но в сознании постепенно, как на фотобумаге в свете красного фонаря, что-то проявлялось. Кусенька в детстве печатал с отцом фотографии в ванной… Нет, не сегодняшняя Швейцария проявлялась. На внутренней изнанке век проступала октябрьская Москва… ночь отъезда Вольфа… та минута, когда они вдвоем с Соней, забыв про Павла, стояли на перроне, а «Красная стрела», мелькнув красным огоньком последнего вагона, улетела вдаль, в темноту. Тогда и кончилось одно «теперь» и началось другое. Именно в ночь отъезда Вольфа в Питер.
В Швейцарии в темном, тесном, никаком пространстве, прямо сейчас, он шел с Соней Розенблюм с Ленинградского вокзала к ней домой… Кузьма обнял Соню на Садовом кольце посреди внезапной метели. Пространство-время, все целиком, вместе с огромным снегопадом, вместе с запахом волос Сони, вместе с ее глазами – легко содержалось сейчас и здесь. Что ли – в голове Кузьмы. Голова, в свою очередь, лежала на подушке в крохотном и темном номере гостиницы местности с названием CERN. Воспоминание о том снегопаде было как небольшая жемчужина в волшебной китайской шкатулке! Счастье… Счастье – вот оно! А потом будет Магда, похороны, холод, крематорий, Петр, и, о Господи! – Nord-Ost… И трещина…
Но в шкатулке, сейчас, Кузьма обнимал свою Соню под огромным снегопадом и не хотел будущего! Но ведь – уже содержал его, ведь оно уже произошло!.. Кузьма очнулся, как от собственного крика: – СОНЯ!!! Что же делать? Эта безысходность желания – все, что осталось от счастья?.. Этот унылый непокой, вечное незнание того, о чем она думает прямо сейчас? И вечная тревога за хрупкое, уязвимое, глупое, полное упрямства и волшебства существо… Она так и не принадлежит тебе, идиоту, ни единой ресницей!.. Но она – есть. И вернется. Она приедет. Она обещала.
«Угрюмый, тусклый огнь желанья…» – вспомнил Кузьма. Кто сказал? Что ли, Тютчев? Этот, конечно, знал… Как медленно, но как неотвратимо этот огнь творит то, чего еще не было в мире – новую жизнь, никогда прежде не жившую. Кузьма вдруг подумал хитрую холодную мысль – как спастись, как ее, эту Соню, это нелепое свое счастье привязать навсегда. «В самом деле, что ли, чего-нибудь с нею родить?.. типа, ребеночка? – Как будто чей-то чужой голос зазвучал в его голове. – Но… нет. Я же сам еще жив! Я еще молодой… хотя и пожилой… Моя жизнь – вот она. Зачем другая? Я же сам для чего-то захотел и родился, но до сих пор не знаю – для чего! Неужели только для того, чтоб, как лосось, протолкаться на нерест и на обратном пути к океану превратиться в распухший, горбатый и обугленный страстью трупик? В ничто, в мертвый памятник своей счастливой несчастной любви?!..» Так ответила в душной темноте умная и наглая, отчаявшаяся его голова. Много эта голова понимает!..
Чанов горевал и сокрушался в шкатулке, в Швейцарии, под Женевой. Но в то же самое время чувствовал, как прочно медленный огнь в нем обосновался, не когда-то, а здесь, и сжигает его прямо сейчас, сейчас, в темной чужой комнатенке, как в топке! За что? Почему? Кто велел?! И самое ужасное, что он хочет этого огня, хочет гореть в нем вечно, хочет сжимать в пламенных объятьях тощенькое свое, восхитительное счастье!..
«А дальше-то, дальше, как там было наутро?..» – подгонял он память, пытаясь вернуться в счастье.
Да вдруг и – уснул.
Сколько себя помнил, с самого раннего детства, Кусенька не мог уловить, хотя всегда пытался, тот миг, когда явь сменяется сном. В шкатулке он и не пытался, не надеялся, думать не думал… но у него – получилось. Зазвонил мобильный телефон, такой сильный раздался звонок, что если бы Чанов спал, то он бы проснулся. А тут он не спал, а полымем полыхал, но именно от звонка – мгновенно уснул, как бы сознание потерял. Или даже умер. Он избавился от муки счастья, все вдруг прошло… отпустило. В ту ночь ему снились сны, он их не запомнил. Но запомнил, что был звонок, что уснул от звонка.
От рождества до Рождества
Утром в шкатулке раздался вежливый стук, и голос Блюхера из-за двери спросил негромко:
– Чанов, вы проснулись?
Чанов открыл глаза, подумал и ответил:
– Нет. Я еще сплю. – И снова закрыл глаза.