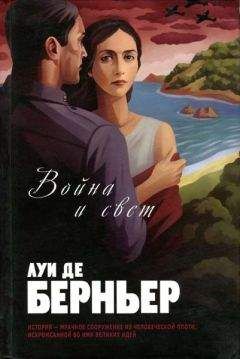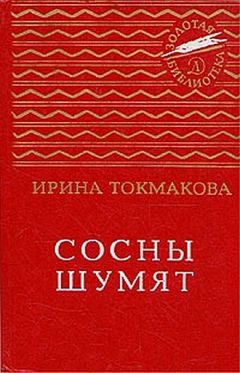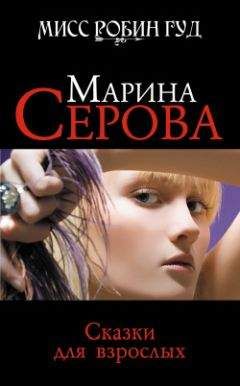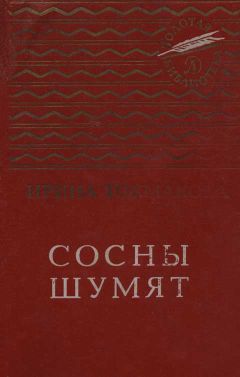Марина Козлова - Пока мы можем говорить
– Поцелуй меня, – просит Борис. – Потихоньку. Как получится. Пожалуйста.
Саша закрывает глаза и вслепую находит своими онемевшими губами его губы. Он ничего не делает, не перехватывает инициативу, вообще не шевелится. Просто ждет.
«Откуда, о Господи, взялось это викторианское создание, эта отличница с Бестужевских курсов, бесплотное существо из тонких миров, эльфийская принцесса?» – с раздражением, с недоумением, с возбуждением, которое движется волной по его позвоночнику сверху вниз, думает Борис, ощущая на губах ее стерильный младенческий поцелуй.
Она еще не знает, что мотель, к которому они свернут через полчаса, по странному совпадению будет называться «У озера». В ресторанчик они придут спустя сутки, с трудом переставляя ноги и держась друг за друга, как раненые бойцы. Борис, не обращая внимания на переглядывающихся официанток, будет кормить ее с ложки золотистым куриным бульоном, поить теплым молоком и шептать: «Сашенька», прикусывая губами теплую мочку уха. Он очень надеется, что она навсегда забудет свой вчерашний панический страх перед ним, ужас перед разобранной постелью, стыд, панику, судорогу икроножной мышцы, благодаря которой они, к счастью, и вырулили, наконец. Борис, положив ее ногу к себе на колени, растирал худенькую девичью икру, дул на нее, соскальзывая пальцами в теплую подколенную впадину, и что-то щелкнуло, переключилось у Саши внутри. Еще пару минут назад она холодела и цепенела от его невесомых осторожных прикосновений и вдруг развернулась к нему всем телом, раскрылась, как ракушка мидии, обнаружив нежность и влажный блеск перламутровой изнанки.
Она ничего не спрашивала, он ничего не говорил. Они почти не разговаривали, точнее, пользовались человеческой речью, конечно, но, как почти всегда бывает в подобных случаях, когда голова отключается за ненадобностью, речь эта была весьма условной. Та часть мозга, что отвечает за воспоминания, в частности – за неприятные воспоминания, находилась в состоянии стойкого анабиоза, и Бориса такое положение в данный момент устраивало, как никогда. Суточной давности картина временно ушла за границы сознания. В кабинете Анны главврач Евгений Петрович Торжевский с недоуменно поднятыми бровями, сама Анна, которая то и дело трет пальцами бледный лоб, и Варя. Варя, его жена, долго смотрит на него неожиданно холодными зелеными глазами и говорит: «Да, я знаю этого человека, но уходить с ним отказываюсь… Да, муж, ну и что? Вызовите мне, пожалуйста, такси».
– Я отвезу тебя, – говорит Евгений Петрович. Он стоит за спиной Вари и, глядя на Бориса, поднимает плечи и разводит руками. – Никаких такси. Скажи куда, я отвезу… Хорошо, к маме.
– Мы отвезем, – говорит Анна Борису. – Не волнуйтесь.
Главврач галантным жестом увлекает Варю в коридор «пошептаться», оттуда слышны его низкий интимный голос и неожиданно звонкий, давно забытый Варин смех. В это время Анна говорит Борису:
– Она здорова. Вот вам крест святой. Но эмоциональная память определенного периода в ней как бы стерта. Отсутствует. И о вас, и о вашей совместной жизни, и о погибшем мальчике. То есть она помнит все это так, как помнят справочную информацию. Отстраненно, формально. Вот так как-то…
– Но ведь шизофрения… – не понимает Борис. – Вы же сами мне говорили, что излечить полностью… Как это у вас получилось?
– Вырезалась при монтаже, – нехотя говорит Анна, заправляя за ухо выбившуюся прядь. – Мы тут, в общем, ни при чем. Была временная потеря сознания, скажем так, потом Варя как бы проснулась. И все то, что было с ней последние четыре-пять лет, ушло в область сновидений.
– Вы можете докторскую защитить, – неловко пытается пошутить Борис, потому что решительно не знает, что ему делать и что говорить.
– Я могу стать пациенткой в родной организации. Вот просто без отрыва от производства… – Анна садится в глубокое кресло и сжимается в нем, сгорбившись, обхватив плечи руками.
– Так выходит, – говорит Борис, – что Варя больше не хочет иметь со мной дела? Вот так берет и уходит от родного мужа?
Анна долго смотрит на него, и под ее взглядом Борису становится крайне неуютно. Как будто он что-то украл и его поймали за руку. Или лжесвидетельствовал под присягой. Или делал еще что-либо противоправное и богомерзкое.
– У Вари была шизофрения, да, но это же не означает, что она поглупела. Психическое расстройство далеко не всегда предполагает умственную отсталость. Порой даже напротив – интеллект и способность к пониманию некоторых вещей как бы обостряются, становятся ярче.
– А вы о чем вообще?
– Женщина всегда чувствует, любят ее или как бы…
– Что «как бы»?
– Или просто заботятся. Всегда чувствует, в любом состоянии.
– Домой? – осторожно спросил Борис Сашу, которая успешно изображала из себя куколку шелкопряда, закутавшись в одеяло с ног до головы. Только серые глаза да длинный любопытный нос выглядывали из белого кокона.
– Ууу, – сказала будущая бабочка и изогнулась буквой «с». – Не хочу домой. Меня Ирка сожрет. Она меня испепелит. Дезавуирует. Ты не представляешь себе, какая она змея. Все человеческое ей чуждо, вот честное слово. Как есть змея.
Идея ездить по городу оформилась как-то сама собой, и в ходе ее реализации Борис поймал себя на мысли, что еще никогда он не ездил по Киеву вот так – бесцельно. Да и не ходил, впрочем, не имея перед собой внятного пункта назначения. То есть не гулял много лет, с детства. Не слонялся. Не «вештався», как сказала бы его тетка-опекунша: «Де ти вештаєшся проти ночі, халамиднику, я тобі поїсти зібрала. Ось огірочки в кульку, а картопля вже прохолола, от горе…»[41] Все недосуг было Борису детально разобраться в этимологии необидного теткиного «халамидник». По его смутному ощущению, халамидник приходился близким родственником типичному одесскому босяку. «Картопля вже прохолола», – повторил он про себя, выуживая с заднего сиденья шелковый шарф, набрасывая его Саше на плечи, незаметно вытирая край глаза указательным пальцем – будто просто неожиданно зачесалось веко.
Его захватила, заморочила неожиданная прелесть и горечь этой поездки, тихой и полусонной, будто плыли они на невидимой воздушной подушке между небом и землей, почти на одном уровне с куполами Михайловского собора, мимо незрячих кариатид на Владимирской, над больным Андреевским спуском. Зависнув на бесконечные пять минут над желто-зеленой Гончаркой, они медленно целовались, скользили в низину, к разноцветным домикам Воздвиженки и неожиданно для себя оказались на Трухановом острове среди мангалов, смеха невидимых людей, тающего в зарослях ежевики, медленного шороха речной волны.
– Как я люблю этот город, – сказала Саша, уткнувшись лбом в стекло. – Мой миленький родной город.
– …Мы бы рассказали девочкам, где их родина, – Георгий жевал зубочистку, перекатывая ее из одного края рта в другой, – конечно, рассказали бы, но… если бы мы знали это сами. Так что предпочли не вдаваться… Фигура умолчания, понимаете, да? Меньше знают – крепче спят.
Ирина открыла дверь, молча посторонилась, наморщив нос, будто собиралась чихнуть, но передумала. Борис и Саша вошли в дом и остановились внизу, в холле. Саша, замерев, смотрела на Бориса снизу вверх, он в замешательстве поправлял у нее на плече синий шелковый шарф, потом его рука скользнула по ее опущенному плечу вниз и встретилась с ее рукой. Так они и стояли, взявшись за руки, не замечая широкого темного силуэта Георгия в распахнутых дверях библиотеки. За его спиной светило солнце, а над его плечом то появлялась, то исчезала хитрющая физиономия Кдани – видимо, она поднималась на цыпочки, но долго не могла удержаться в таком положении.
– Явились – не запылились, – добродушно сказал Георгий. – Идите руки мыть. У нас гости, ужин, большой разговор.
Димон и Димыч сидели в креслах по разные стороны стола, строго друг напротив друга, и увлеченно перекатывали по белой скатерти ярко-желтый теннисный мячик. Туда-сюда. От Димыча к Димону. На коленях у Димона большой мохнатой подушкой громоздился бежевый Камамбер, и его хвост свисал до пола. Вошла Ирина, внесла керамическую утятницу, поставила в центре стола.
– Вот выкину фигню эту вашу, – сердито сказала она и накрыла мячик ладонью. – Сейчас всю посуду мне перебьете.
Борис понял, что настроение у нее ниже плинтуса. Да и Саша поняла.
Георгий расправил белую накрахмаленную салфетку и медленно, сосредоточенно заправил ее краешек за ворот своей клетчатой рубахи, в которой он выглядел, как агроном времен покорения целины.
– Садитесь уже, – проворчал он и окинул взглядом уважаемое собрание. – Что вы встали как на митинге? Дима и Дима только что вернулись с горы Холатчахль.
– С горы Холат-Сяхыл, – уточнил Димон и ловко отобрал у Ирины мячик.
– Ух ты! – восхитилась Кдани.
– Что это за новости? – Ирина подняла на Георгия округлившиеся от возмущения серые глаза, в которых – Борису это было видно даже с другого края стола – мушка стремительно входила в прорезь прицела. – Как мы с Шурой просились на перевал, так нам нельзя, а им, значит, можно? Шура, скажи, что́ ты сидишь, как рыба снулая!