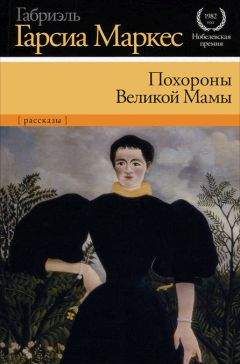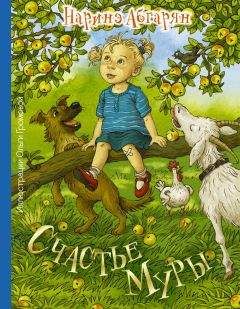Мария Голованивская - Кто боится смотреть на море
Не успел он прочесть: «Господи, с Рождеством Тебя, со светлым праздником Рождества Христова», как заметил, что по ту сторону окна собрались люди и тоже пытаются читать вместе с ним через стекло. Он бросился вон из магазина. Зеваки побежали за ним, а он вскрывал письма на бегу и на бегу пытался прочесть из каждого хотя бы по нескольку строк.
«Господи, я прожил жизнь, и так и не узрел веры, дай мне веры в Тебя, чтобы жизнь мне не казалась бессмысленной, а смерть ужасной».
Подбегая к Никитским воротам, он вскрыл третье письмо. От бега сердце у него колотилось и дрожали руки.
«Господи, я умираю, – говорилось в третьем письме, – и, умирая, я хочу сообщить Тебе, что я не верю в Тебя, не верю и теперь, когда впереди меня ждет неизвестность и мрак, не верю и теперь, когда знаю, что ошибка моя может стоить мне вечного ада и мерзких терзающих чертей. Я не верю в тебя, и даже страх смерти не сможет поколебать моего неверия».
Он внезапно остановился. Все остановилось в нем. Он был скован неподвижностью.
Напрягая последние силы, он вскрыл последнее, четвертое письмо.
Лист был пустым.
Он вглядывался, но ничего не видел. Только ослепительная белизна и молчание. Только тишина и ровное сияние белого света.
Скрипнула дверь.
К нему подошла Франсуаза и коснулась его шеи своими пальцами. Потом отошла к окну и зашторила его. Потом он услышал, как она звонит по телефону:
– Он умер, – сказала она кому-то тихо. Он слышал, как удалялись ее шаги.
В комнату вошла Марта. Он узнал ее по звуку шагов.
«Значит, она никуда не уезжала, – мелькнуло у него в голове, – значит…»
Он увидел Марту перед собой, она села на край кровати и положила руку ему на лицо.
Она закрыла ему глаза, потом встала и пошла к окну. Он понял это по шагам.
– Отправь письма! – крикнул он ей.
Она не ответила.
– Я умоляю тебя, отправь письма!
Она расшторила окно.
Наверное, она смотрела на улицу, на шумную текстильную улицу. Он знал, что она видит: плотноватые мужчины и женщины раскраивают, шьют, гладят огромными утюгами на толстых, черных, свисающих с потолка шнурах. Улица надрывается мотоциклетным ревом, и юноши в кожаных куртках развозят в разные концы города костюмы, платья, жакеты.
Возможно, она смотрит на третье окно сверху дома напротив, где всегда, подбоченясь, беседует с молоденькой толстушкой коренастый усач, соблазняет ее, подлец!
Но толстушка не отвечает ему, она слишком занята работой и не отвечает ему никогда, никогда, никогда…
Ветер
– Неслыханная жестокость, Петр Семенович, затравить собаками… Пытались, говорят, Цыгана по кускам собрать, да не смогли, даже и хоронить нечего.
Он опустил глаза в чай, заваренный на английский манер, с молоком, погремел в нем ложечкой, потянулся рукой к пирожочку с визигой, скучно так откусил, без страсти:
– Ветер сегодня. Гляди, как пригибает ветки к земле. Поломает-то, наверное, яблони, подпирали вчера с Сенькой рогатинами, да, думаю, без толку. Поломает… Штрифель в этом году уродился, как в редкий год.
– Яблоки жалеешь, а человека собаками затравил.
– Коришь меня? – Петр Семенович поднял бровь. – Ты меня коришь? Может, я малость и перебрал, спорить не буду. Из-за тебя весь сыр-бор вышел, и ты говоришь, что я жесток?
Марья Степановна выпрямила спину, убрала руки со стола.
– Ты же сколько хотел изменял мне. Девок щупал, они рожали от тебя. Бывало, пройду по деревне, так и тот пацан к тебе лицом близок, и этот. Прыскают мне в спину: «Барин от барыни недалеко падает», издеваются, что ты тут же всех и обрюхатил. Даже никуда не отъезжал. А ты на меня взъелся из-за сущего пустяка.
– Пустяка? Ну, как скажешь… Гости сегодня приедут к ужину, Семёнов с кузиной и Церевитинов с дочками, так я уж прошу тебя, голубушка, чтобы без обсуждений. Даже если они слыхивали, даже если спрашивать будут, не начинай темы. Могу надеяться? Пускай за спинами говорят, что Дурново – зверь, а мы эту тему поддерживать не будем.
Марья Степановна позвонила в колокольчик, в полном молчании дождалась появления Глашки, велела ей позвать повара – вот ведь выписали из Парижа самого что ни на есть кордон блю, а он и языков сварить не умеет, и соус из хрена у него выходит жирный – срамно подавать, не говоря уже о заливных и о почках.
Марья Степановна долго на ломаном французском поучала повара в присутствии мужа, зная, как он такие разговоры недолюбливает. Она повторила несколько раз: сваришь языки в соленой воде, потом откинешь на лед, потом одним движением снимешь кожу. Одним движением, как чулок, слышишь?
Закончив, пристально посмотрела на Петра Семеновича:
– Меня, значит, винишь в своей жестокости? Меня, супругу свою? В жестокости?
Петр Семенович долгим взглядом поглядел вокруг. Попытался напустить на себя загадочности:
– Разве ветер бывает жесток? Ломает слишком тяжелые ветки – вот и все. Бремени лишнего не любит.
– Но почему собаками? Зачем так-то?
Повисла пауза. Каждый ушел внутрь.
Палашка пришла прибрать со стола, он скользнул по ней взглядом – хорошая девка, налитая, для того и поставил ее прибирать, чтобы кровь ходила.
– Мы же с тобой одно, – пробурчал Петр Семенович своим мыслям в такт, – одна сатана, ну сорвался, бывает. Приревновал, так ты прости меня, дурака. Ты ж была с ним?
– Была. Ты же уже спрашивал…
Как же это она была с ним? Эта целомудренная неумеха? Она рассказывала ему, когда он пытал ее, да ничего так из ее рассказа и не понял. Прожили вместе двадцать два года, а он так и не научил ее любовным дерзостям. Брал девственницей, это понятно. В первую ночь она все стеснялась, просила, чтобы без света, а он все повторял ей, лаская сначала нежно, успокоительно: «Не могу наглядеться, душа моя, дай взгляну, как грудь твоя колышется, плечи твои такой красоты, шея, как же мне не глядеть?»
Марья Степановна расплакалась тогда, страшно, неловко все это, ни к чему. И чего ему надобно, вот она вся – так пускай берет без лишних прелюдий, она готова, глаза закроет – и пусть берет, как там у них это положено – сильно, отчаянно, грубо даже, а он все темнит, подглядывает, ласкает рукой, несмотря на то что все его тело дыбом, Господи, так что же это за мука такая – показывать себя при свете, терпеть, как целует он ляжки, как запускает пальцы невесть куда, скорей бы уже, Господи, скорей бы!
Он очень хотел распалить жену. Свадьбу они сыграли в августе, в пору тяжелых уже плодов, он глядел на эти налившиеся грушки, на дерзко поспевающие яблоки, ласкал ладонью тяжелые ядовито-ароматные головки лилий и воображал, как однажды разрумянится и она сама, зайдется в игре, скажет ему слабоватым голосом, ну давай же, целуй меня где нельзя, а еще здесь и здесь. И он сорвется с цепи на эти слова, обрушится на нее с поцелуями, всей своей изнемогшей от сдерживания силищей, но она все стеснялась и стеснялась, все никак не могла подыграть ему, инстинктивно сжимала бедра, медлила переворачиваться, когда он просил ее, – «Да зачем же это? – недоумевала она. – Какие глупости, неужели тебе так, как есть, недостает?»
Все в ней было – и преданность, и искренняя забота, и необходимая для жизни в поместье хозяйственность, деловито она отпускала провиант, следила за прачками, умело распоряжалась гардеробом, наставляла кухарок.
Из нее получилась хорошая жертвенная мать, первенца пестовала – родила мальчика на радость ему. Потом еще и двух дочек.
Но страсти не казала. Все говорила потом, потом. Никаких особенных умений, тех, что необходимы беременным женам, чтобы мужья их не тосковали без обычной близости, не приобрела. Каялась, винилась, говорила: «Ну, не могу я этого, это же только дурные девки такое могут», и он в душе серчал: у других пускай и непутевые жены, но страстные, с огнем. Столько похвальбы он слышал от закадычных своих друзей, с которыми служил, да и от соседей своих, помещиков, с которыми по молодости, конечно, делились на охоте или рыбалке: после ледяной водочки из садочка так сладко говорится, так сладко мечтается, даже врется, но он не мог врать, он молча слушал, все повторяя: «Да моя-то скромница, ей баловства не привьешь».
Терзался. Корил себя. Думал, что неумел. Уж хитрое ли дело – развратить жену, приучить ее под себя, а не шел урок.
«Может, девки от меня стонали показно? – терзался Петр Семенович. – Что же я за герой, если не умею как следует свести с ума?»
Пытался пробудить ревностью. Не скрывал своих поблядушек. Восхвалял в ее присутствии чужих жен и даже прислугу.
– А смотри, как хороша, – позволял он себе, – эта наша новенькая. Норовистая, вон как головой поводит!
Не обошел вниманием и гувернанток; как положено, стучался к ним после полуночи, дарил подарочки, прогонял со двора, все приглядываясь, не взревнует ли?
Не ревновала.
Вздыхала только.
– Зачем меня позоришь? – с простым, незамысловатым выдохом спрашивала иной раз, когда у него получалось слишком уж показно. И сама же себе и отвечала: – Да какой в этом позор, все так. Если нужно тебе – так пускай.