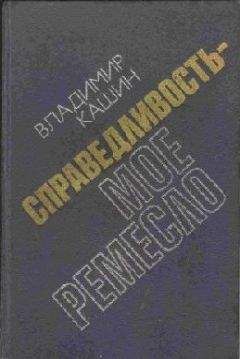Екатерина Марголис - Следы на воде
Улыбается. Тихая и светлая улыбка – венецианский свет.
Мы поднимаемся по крутой лестнице. Слева дверь. Я мгновенно ее узнаю. Медная табличка «Francesco Donа».
– Узнала?.. Я заберу себе табличку. Это моего отца.
– А где контрабас?
– Все увез к себе на Бурано. Тут ничего не осталось.
Поднимаемся еще на два пролета. Балки. Сундуки, стулья, сапоги для aqua alta, чемоданы, какая-то чердачная труха, как на хуторе. И запах такой же. Сбоку еще одна дверка. Он открывает ее, и мы оказываемся в темной каморке под самым скатом крыши. Тусклый свет еле пробивается сквозь щели. Единственное окошко забито досками. Постепенно глаз привыкает к темноте, и в углу проступают очертания чехла от гитары, пюпитр с нотами, переписанными чернилами от руки, столик со статуэткой мадонны, высохшие цветы, какие-то книжки, картина и посередине единственный стул. Он подходит к окну, достает из сумки-планшета гвоздодер и начинает отдирать доски. Я тоже подхожу поближе и из-за его спины смотрю в окно на постепенно открывающийся вид. Вид из окна несовершенный – на чужеземство и на жительство: земной глагол незавершенный небесного градостроительства.
Наконец все-таки не выдерживаю и тянусь за фотоаппаратом. Нарисовать все равно не успею.
Пододвигает стул.
– Садись.
– А ты?
– Посмотрю в окно.
Сажусь вполоборота. Он остается стоять посреди комнаты.
Оборачиваюсь. Смотрю на него. Он на меня.
Молчим.
– Зачем ты уехала тогда? Зачем вышла замуж? Почему ты не осталась со мной?
Смотрю на него. Смотрю не отрываясь. Все плывет перед глазами.
– Наверное, потому, что ты не попросил меня остаться… Я не знала… Я думала тогда… что моя жизнь кончена и этим определена раз и навсегда…
– А что я мог? Тебе было двадцать. Ты была слишком молода. Совсем девочка. И ты только что потерпела крушение – это я сразу понял. Мы встретились на берегу. Но мы не могли быть вместе. Я не знал, как ты живешь в Москве и что у тебя там оставалось. Ты, наверное, хотела учиться в университете. Не мог же я просто взять и выдернуть тебя с корешками. Кроме того, я не расспрашивал, а ты не рассказывала о своем кораблекрушении. Конечно, я хотел помочь тебе. Чувствовал и то, что ты колебалась – не оставить ли московскую жизнь, не начать ли все сначала. Я и сам сомневался. Но что я мог тебе предложить? Только себя? Тихую жизнь, стружки, лодки, скрипки… Я побоялся взять на себя такую ответственность, ты ведь такая… – Он набрал воздуха и, так и не подобрав прилагательного, продолжил: – Твоя жизнь только начиналась. Тебе надо было столько всего попробовать. А я дорожил тогда своей свободой. Я думал, это важно. Мы ничего не сказали друг другу. Я отпустил тебя, и ты уехала. Родила дочку. Потом вторую. Ты вышла замуж. Я женился. Не помню, рассказывал ли я тебе, но мои родители ведь никогда не были женаты. Мама жила на Бурано и плела кружева. Папа жил в Каннареджо и играл на контрабасе. Они очень любили друг друга и встречались каждый день. Они ходили в кино. Они брали меня на долгие прогулки, и мы плыли на отцовской лодке, а потом причаливали. Они покупали мне мороженое, замирали другу у друга в объятиях… и прощались. Мы с мамой садились на вапоретто и ехали домой, а папа возвращался в этот дом к своему контрабасу. Как я хотел, чтобы мы все жили вместе, и каждый раз загадавал: «Вот, сегодня». Но они снова прощались. И лодка снова отчаливала. И мороженое снова таяло во рту. Я так и не узнал, почему они жили так, как они жили. Они отмалчивались, отшучивались, а теперь унесли свою тайну с собой туда, где будут навсегда вместе. А я с детства мечтал о своей семье, о настоящем доме, где обитала бы совместность, о человеке, который был бы со мной рядом всегда, каждую минуту. Наверное, это говорил голос моей матери. Но и другой голос жил во мне – голос моего отца: музыка, свобода… Ты уехала. Я встретил свою жену. Но если мы вместе – для меня это значит, что я с этим человеком навсегда… Мы часто делаем выбор, но сами не знаем, что выбираем. Но то, что у нас есть, это ОЧЕНЬ много, поверь…
Чувствую, что начинаю плакать. Подхожу к окну. Сан-Джованни-э-Паоло. Красноватая чешуя венецианских крыш. Накрапывает мелкий дождик.
– Ты не знаешь… Ты ничего не знаешь… Я же приехала тогда в Венецию без всяких надежд. Мне казалось, что меня нет. Я не знала, что здесь я встречу свое утраченное детство и юность. Я думала, что в моей жизни уже ничего не будет. Но с первых ступеней на первом же мосту я совершенно неожиданно почувствовала, что я на той самой даче, где белое поле и заснеженные дорожки. Я не приехала. Я вернулась. Стоял ноябрь. Улицы были пусты и туманны. Одинокие прохожие казались старыми знакомыми. Наверное, поэтому Венеция для меня не карнавал, не музеей и не город влюбленных. Для меня она так и осталась местом возвращения, местом встречи с самой собой. И потом «ля фамоза неббиа», этот туман венецианский, который делает все таким неуловимым. Знаешь, наверное, дело в том, что Венецией нельзя обладать. Можно только любить и ждать встречи. Ни ухватить, ни поймать как что-то законченное. Это всегда поиск. Всегда возвращение. И всегда обещание…
Он подходит со спины и обнимает меня за плечи:
– Siamo ormai tutti e due prigionieri di questa città79. По-русски (я помню, ты мне говорила) слово «город» мужского рода. А по-итальянски город – она, женщина, верно?
Я (сквозь слезы):
– Sì. Io e tе… bello lo stesso80.
Он (немного помедлив, глядя в окно):
– Ты, наверное, никогда не видела Венецию с такой высоты… Только тогда, на Сан-Джорджо.
– Да.
Тогда, в лифте на колокольню Сан-Джорджо, двенадцать лет назад, старенький падре спросил, давно ли мы поженились, а на смущенный ответ, что нет, падре, мы не женаты, задумался.
– Странно… Я венчал столько пар. Я никогда не ошибаюсь.
Если бы я это увидела в кино или прочла… Как дорого я дала бы сейчас, чтобы все или хотя бы что-нибудь из этого не было документальной, неотменяемой правдой, чтобы хоть что-то я придумала или добавила для красоты… Силуэт Франческо, забивающего досками окно. Шелест дождя.
Спускаемся двумя этажами ниже и останавливаемся у дверей прежней квартиры.
– На самом деле у меня остался ключ. Хочешь войти на минутку?
Входим. Пустая темная квартира. Здесь я спала, здесь стоял контрабас, здесь он варил кофе.
Он протягивает руку куда-то в темноту и достает огромную раковину.
– Отнеси девочкам. Дай им перед сном. Скажи, что там море и плывет пиратский корабль. Да, и вот зонтик. Чтобы вы не промокли по дороге из школы.
Он запирает квартиру. Они спускаются по лестнице. Она протягивает руку, чтобы открыть дверь парадного. Он мягко останавливает.
– Подожди. Мы, может быть, больше не увидимся.
Целует в щеку. Потом в лоб. Потом опять в щеку. Провожу рукой по его волосам.
Выходим на улицу. Молча доходим почти до моста Академии. На Санто-Стефано он вдруг не выдерживает и достает из кармана мобильный телефон:
– У меня теперь тоже есть такой.
Перехватываю:
– У меня тоже. Запиши номер.
Это было лишнее. Но он записал мой номер и немедленно его набрал. Мобильный зазвонил, и на экране высветились цифры.
– Ну вот. Теперь и у тебя есть мой телефон. Мы будем просто встречаться, пить кофе – вот увидишь.
Они потерянно смотрят друг на друга.
Он выпрямляет заржавевший зонтик, открывает его и протягивает мне. Беру и, не оглядываясь, бегу забирать детей из школы. Перебегаю мост и оказываюсь на каком-то совсем другом берегу.
Я пишу эти строчки много жизней спустя. В нескольких шагах от меня по-прежнему стоит большой клетчатый зонтик. А у детей на столике около кровати лежит раковина, и в ней шумит твое море и качается синяя лодка.
O, Signore, fa di me
uno strumento della Tua Pace:
Dove è odio, fa ch’io porti l’Amore,
Dove è offesa, ch’io porti il Perdono,
Dove è discordia, ch’io porti l’Unione,
Dove è dubbio, ch’io porti la Fede,
Dove è errore, ch’io porti la Veritа,
Dove è disperazione, ch’io porti la Speranza,
Dove è tristezza, ch’io porti la Gioia,
Dove sono le tenebre, ch’io porti la Luce.
Maestro, fa che io non cerchi tanto
Ad esser consolato, quanto a consolare;
Ad essere compreso, quanto a comprendere;
Ad essere amato, quanto ad amare.
Poiché, è dando, che si riceve;
Perdonando, che si è perdonati;
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna
Господи, сделай руки мои орудием Твоего мира,
и туда, где ненависть, дай мне принести Любовь,
и туда, где обида, дай мне принести Прощение,
и туда, где рознь, дай мне принести Единство,
и туда, где заблуждение, дай мне принести Истину,
и туда, где сомнение, дай мне принести Веру,
и туда, где отчаяние, дай мне принести Надежду,
и туда, где горе, дай мне принести Радость,
и туда, где мрак, дай мне принести Свет,
Помоги мне, Господи,
не столько искать утешения, сколько утешать,
не столько искать понимания, сколько понимать,
не столько искать любви, сколько любить.
Ибо кто отдает – тот получает,
кто забывает себя – вновь себя обретает,
кто прощает – тому прощается,
кто умирает – тот воскресает в Жизни Вечной.
Ибо мой Бог – Бог пробелов и полей,
Бог Слова, а не Буквы,
Бог смысла, а не правил, семантики, а не грамматики,
Мой Бог – Бог совершенного вида несовершенного глагола,
Это Бог сочинительной, а не подчинительной связи,
Это Бог «ибо», а не «если – то»…
Мой Бог – это Бог глаголов жизни вечной.
Бог действительного страдательного залога,
Бог настоящего времени,
Бог второго, а не третьего лица.
Мой Бог – не Бог лингвистов и писателей,
Мой Бог – это Бог Авраама и Иакова, Бог Франциска Ассизского и рыбака Франческо, Бог Мартина Бубера и матери Марии, Бог Паскаля и Бонхеффера, Бог Александра Меня и Ежи Попелюшко, Бог Лёвы и Гиты, Иоанна Павла Второго и митрополита Антония, Бог Ксюши и Саши, Бог о. Георгия и брата Роже, Бог Габриадзе и Норштейна, Бог Иры и Гали…
Мой Бог – это наш Бог…
И даже проще.
Разве Тебя иного не знаю.
Мой Бог – это Ты, Господи.
Ты же испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое – высоко, не могу постигнуть его! Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря – и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли: «Может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью»; но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка; когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. И дождись меня. Я вернусь. И снова, как в детстве, выйду на белое поле. Выйду к Тебе навстречу из рая-сада, который от Тебя же достался нам в подарок. Где все пустило корни, и многое взошло, а кое-что – Бог даст – даже принесет плоды (Ты ведь дашь, правда?). Где еще многое только обещает быть, но уже сейчас здесь жизнь, и жизнь с избытком. Здесь играли, пили чай и разговаривали. Здесь молчали и всматривались друг в друга. Здесь лежит белая загрунтованная доска, на которой уже просматривается белая птица. И нет в этом саду незначительного, а есть то, что должно прорасти – семена и корни. Отсюда уезжают и сюда возвращаются. И всякий раз Москва благословляет на прощание, а Венеция обнимает при встрече. Словно кто-то готовит эту встречу и развязывает какой-то узел внутри. И каждый раз, распаковывая чемоданы, снова и снова, будто впервые, не обнаруживаешь того главного, что все время вроде бы возишь с собой и все время теряешь. И снова нигде не видно. А ведь точно был. Открываешь молнии, застежки, карманы. Перебираешь вещи, мысли, чувства. Вот уже все полностью разобрано: опыт – тут, а смысла нет. Ты же знаешь помышления мои издали. Где он? Может быть, в ряби на воде канала? В пении птиц? В щебете детских голосов, доносящихся из окон школы Данте Алигьери? В переливчатых позывных скайпа с того конца земли? В звуках клавесина и детской скрипки? В Катиных ирисах в нашем саду, которые тянутся к апрельскому небу? В виноградной лозе? В моих красках и кисточках? В сетях и сапогах у калитки? Или там, в обрезках цветной бумаги и карандашах, разбросанных по белой больничной простыне, в трубочке, соединяющей инфузомат с катетером? В голубизне венецианского неба или в голубых глазах двухлетней девочки из детского дома? В белых ленточках и шершавой ладони незнакомого человека, берущего тебя за руку на Садовом кольце, или в белоснежной улыбке «Ciao, cara!»81 ближайшего булочника? Как смешно возится человек в своем багаже в поисках смысла, правда? Закрой чемодан и оставь свой опыт, человек. Он больше не нужен, потому что Тебе и оставлю я все это, а сама тихонько выйду за калитку и дождусь, когда по нашей улице пройдет на цыпочках дождик, и пойду вслед за ним, нашим старым венецианским приятелем. Он проведет меня вдоль старых каналов, по мостовым, «по площадям, как слово „прощай“, широким и улицам узким, как звук „люблю“», и я узнаю звук Твоего имени. И мы вместе проводим долгое эхо этого звука по Calle Lunga, lunga, lunga, lunga, а потом я сверну в cкверик и, минуя Патриаршие пруды, по переулку дойду по Трехпрудному до Тверской и до Столешникова, я пройду всю Москву по коридорам старых квартир вдоль книжных шкафов, фотографий и портретов, я выйду за город; я пройду по рельсам мимо строек и пыльных предместий, перейду через латгальский холм и через сосновую рощу, и кустики брусники будут щекотать мне пятки, я дойду до подмосковной станции и, оставляя позади шоссе, в разгар лета пересеку заснеженное поле, оставляя позади три сосны и церковь, где меня крестили, – я оглянусь – и буду возвращаться все дальше в нарушение всех законов геометрии, географии и биографии: от Фондамента Нуовы к горизонту, в сторону острова Бурано, на край моря, где вода сливается с небом, куда ведет многоточие свай; я буду, как мой народ, переходить жизнь в обратную сторону – но море не расступится, нам обещано большее: мы пройдем по воде аки по суху. Оно будет качаться, но я не упаду и не утону. Ибо Ангелам Своим заповедаешь обо мне.