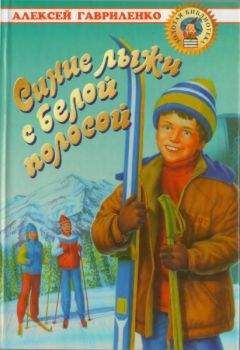Олег Рой - Фамильные ценности, или Возврату не подлежит
На улице, однако, все еще был день – серенький, уже слегка приправленный синевой подступающих ранних зимних сумерек – но это был все еще день. От морозного воздуха у Даши защипало в носу и в глазах. Да, да, да, именно от холода, ни от чего больше…
Ажурные чугунные перила, ограждающие крыльцо салона, на фоне бледно-зеленой, как будто тоже замерзшей стены казались очень черными.
Мимо, цокая каблучками по тротуарной плитке, прижимая к уху телефон и хмурясь, пробежала девушка:
– …сегодня… да… ладно… только не потеряй… чего, чего – не потеряй! Вот балда! Говорю – не-по-те-ряй, – по слогам повторила девушка и скрылась за поворотом.
Не потеряй. Не потеряй. Не потеряй.
Даша нахмурилась, с недоумением обвела глазами вздымающиеся вокруг стены, ледяную крошку у тротуарного бордюра, жужжащий вдалеке снегоочиститель. Из-за снегоочистителя торчал светофор, сияющий теплым янтарным светом. Мигнул – и переключился на зеленый…
Глава 7
Крах
Мальчишки побивают лягушек камнями ради забавы, но лягушки умирают по-настоящему.
ПлутархДеда своего – красного командира Ивана Быстрова, погибшего под Сталинградом, – она не помнила. Совсем. Бабушка и мама рассказывали, что он еще успел покачать ее, новорожденную, на руках – перед самой войной. Но она-то этого, разумеется, помнить не может. Она же не Лев Толстой, который писал, что помнит собственные крестины: скользкие края лохани и даже, кажется, запах церковных свечек. Ну-ну.
Зато отца, Василия Ивановича Тихонина, помнила очень хорошо. Дочку он обожал и готов был исполнить любую ее прихоть. Даже в войну. В армию его не взяли не то из-за какой-то хитрой болячки, не то из-за «министерской» брони. Хотя, может, брони никакой и не было: служил отец в Пищепроме на мелком каком-то посту и всю войну «перекладывал бумажки» – так он отвечал, когда Аркадия спрашивала его про работу. Она, совсем еще кроха, представляла тогда, как папа сидит возле бумажной кучи, вытаскивает из нее листочек и, серьезно нахмурив брови, кладет рядом. Потом другую – до тех пор, пока куча не переместится. Наверное, это очень важная работа, думала тогда Аркадия. Аркадия младшая. Аркадия Вторая.
Вообще же войны она почти не помнила – слишком мала еще была. Помнила, как бабушка, Аркадия Первая, стряпая «студень из лошадиных мослов», а в памяти почему-то застряло именно это выражение, а уж что там было на самом деле, бабушку уже не спросишь, бодро приговаривала: «Подумаешь! Вот во время гражданской потруднее было, хоть заборы грызи!» Впрочем, действительно ощутимых лишений Великая Отечественная в их дом не принесла. Все-таки и бабушка, и мама были связаны с торговлей. Да и «сокровищница», как она потом поняла, помогала: на черном-то рынке продукты были – если было, на что их выменивать. А у них – было.
Так что от войны остались в памяти только черные шторы затемнения да вечерние игры с отцом. Благодаря ему Аркадия младшая даже читать выучилась очень рано – кажется, еще до Победы. Большое дело, что и говорить.
Хотя вообще-то Василий Иванович Тихонин ни к каким «большим» делам отношения не имел. Не по плечу они ему были. Легендарного комдива – того, что с шашкой наголо, в бурке и папахе – отец не напоминал ни на волос. Лучше бы, наверное, его не Василием Ивановичем звали, а как-нибудь попроще, не так звучно, чтоб не путаться. Зато фамилия Тихонин подходила ему идеально. Тихий, почти бессловесный – никакой. Ни карьеры, ни зарплаты, ни хоть каких-нибудь иных талантов. Тихоня. Рохля, безжалостно констатировала бабушка, совсем не то что Иван мой, светлая ему память, тот настоящий мужик был, орел, не то что этот – и она презрительно хмыкала.
Матвеевы – и постаревшая Люба, и взрослый уже «младший» Михаил – тоже относились к мужу Анны сдержанно, чтоб не сказать больше. С этакой прохладной «дипломатической» вежливостью, которая, по правде сказать, бывает тяжелее открытого раздражения. Да пусть бы даже ненависть – все хоть какие-то чувства, а безразличное «да-да, нет-нет, передайте, пожалуйста, соль» превращает человека в пустое место. Даже Аркадия, точно заразившись общим настроением, заботливость отца и всегдашнюю готовность исполнять ее прихоти воспринимала не то чтобы холодно, но словно бы как должное. Ничего особенного. Удивительнее всего, что сам Тихонин не предпринимал ни малейших попыток сломать эту отстраненность. От робости? От неуверенности в себе? Или от, страшно сказать, безразличия?
Потому что «пустым местом» он точно не был. Равно как тихоней и рохлей.
Аркадия перешла в шестой класс, еще не устала гордиться «пятерочным» табелем и наслаждалась каникулярным бездельем, когда однажды утром услышала сквозь приоткрытую кухонную дверь непривычно твердый отцовский голос:
– Алименты – само собой, буду платить, как полагается, аккуратно. И вообще буду… помогать. С дочерью буду видеться регулярно. И прошу не пытаться мне в этом препятствовать.
Никто и не пытался «препятствовать» – и смысла в том не видели, и, главное, слишком велико было изумление. Этот человек прожил с ними бок о бок больше десяти лет – и остался тайной за семью печатями.
– Правду говорят, что в тихом омуте черти водятся, – недоуменно ворчала бабушка Аркадия. – Ну не сильно его в нашем доме привечали, это да. Ну не стерпел… хотя так и не могу представить, чтобы у такого могло терпение кончиться… но допустим. Но ведь мы ж вообще ничего не разглядели, получается? Как будто не из того угла на него глядели. Ладно бы к кассирше какой-нибудь ушел – мелочь к мелочи. Но чтоб к замминистра… И не старая совсем. Даже наоборот, очень даже ничего себе дама. Симпатичная.
Новая отцовская жена все-таки была не замминистра, но пост – да-да, разумеется, в той самой конторе, где он «перекладывал бумажки» – занимала немаленький. Не так уж сильно бабушка и преувеличивала. А по поводу внешности «дамы» – и вовсе нисколько. Скорее уж преуменьшала.
Анна, немного поплакав, попыталась было «помириться» с мужем или хотя бы, как это называлось, «сохранить семью», даже, как тогда было принято, потыкалась в профкомы и месткомы, но – тщетно. Василий проявил совершенно неожиданную твердость и абсолютную непреклонность. Долго Анна, впрочем, не горевала, махнув рукой: насильно мил не будешь, а что ни делается – все к лучшему.
На первых порах Аркадия виделась с отцом не просто регулярно, а даже часто, чуть не каждую неделю. Потом чуть реже, потом еще немного реже… А потом новая жена родила Василию сына, моментально захватившего все внимание отца. Так что ненаглядная Арочка отошла на второй план, словно бы поблекла. Алименты приходили исправно, подарки к Новому году и к дню рождения – тоже, два-три раза за год он выводил дочь куда-нибудь в театр или на концерт… И все! Все? Все!!!
Сейчас-то, с высоты прожитых лет, Аркадия Васильевна понимала, что в этом постепенном удалении, отстранении, охлаждении ее отношений с отцом немалую роль сыграла его новая супруга:
– Ушел, значит, ушел. Началась новая жизнь, а старую нужно оставить в прошлом. Алименты платишь, и достаточно. Девочка уже большая, должна понимать, что у тебя жена и маленький ребенок, не до ее капризов. Она не бедствует, у нее вполне обеспеченная семейка, так что нечего оглядываться.
Аркадия этого, конечно, не слышала, она и «новую»-то видела всего несколько раз, и то издали, но представить подобный монолог могла во всех подробностях: все эти сентенции были написаны на лице отца во-от такими крупными буквами, даже слепой бы прочитал! А «слепой» она не была.
Ко всему прочему, «новый» ребенок оказался слабеньким и болезненным, к нему цеплялись все мыслимые и немыслимые детские хвори. Из простуды он перепрыгивал в свинку, потом у него случался очередной понос (фу, гадость какая!), потом обнаруживался сколиоз или еще что-нибудь. Зиму Василий с супругой таскали отпрыска по «светилам» педиатрии, летом увозили то в пансионат «с целебным сосновым воздухом», то на грязи в Евпаторию, то просто на море.
Аркадия скучала.
Не столько по отцу, сколько по неизменно создаваемой им атмосфере обожания и восхищения. Она уже привыкла быть принцессой и практически пупом земли – хотя бы для одного отдельно взятого человека – и тут вдруг нате! Да еще в тринадцать лет…
Можно сколько угодно говорить, что переходный возраст на то и переходный, что проходит, не оставив ни облачка от раздиравших душу бурь. Но жить-то внутри этих бурь ой как несладко! Некоторое время девочка размышляла над тем, чем же она провинилась, в чем же она оказалась «плоха» – раз уж ее перестали обожать, значит, тому была же, должна была быть какая-то причина? Поняв, что в ней самой ничего – ну просто ничегошеньки! – не изменилось, Аркадия обиделась. Сперва на отца, а следом – и на весь мир. Ведь несправедливо же!