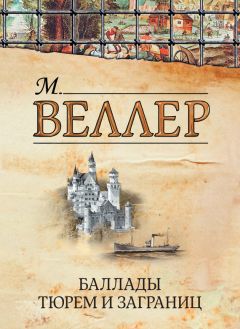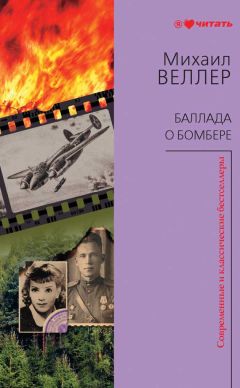Михаил Веллер - Баллады тюрем и заграниц (сборник)
Бутылка обошла круг, и каждый проявлял реакцию ценителя: цокали, вздыхали, делали жесты, говорили типа «умеют, гады». Желтоватый цвет напитка никого не смущал.
Отвинчивающаяся пробка чуть протрещала засохшим клеем – типа была запечатанной. Дегустация сопровождалась причмокиванием и констатацией превосходства ихней алкогольной промышленности.
Тогда мы раскрыли секрет. Общий смех вышел немного натянутый, из самолюбия обозначающий веселье. Народ был уязвлен и сконфужен публичностью своей серости. Мы понятия не имели, как выглядит джин и каков он на вкус.
В трудовых коллективах за месяц до 31 декабря сдавали деньги на шампанское. Кто-то со знакомством на базе или в магазине закупал несколько ящиков. По две бутылки на нос. В декабре шампанского в магазинах не было.
Средь бела дня рабочего я, молодой специалист, пригласил девушку в скромный ресторан «Чайка» – с неожиданного заработка. Мы хотели шампанского, и мы хотели мяса, – такое было настроение. В ресторане не было шампанского. И не было натурального мяса. Нам предложили сухое болгарское и котлеты под несколькими названиями. Я помянул Остапа Бендера-миллионера. Я в прямой форме предложил официанту заплатить сверху. Он в завуалированной форме предложил мне засунуть свои деньги в полость тела.
Экономика и психология связаны национальной идентичностью. Каждый август табачные фабрики дружно шли в отпуск. Мужики метались по магазинам и ларькам, как гибрид подыхающей мухи с шариком для пинг-понга. Курили всё! Мерзкие противные «Дымок» и «Яхта» – твердо набитые, сыроватые, негорючие, тошнючие, – шли за счастье. Но! Почему никому из нас не приходило в голову сделать себе запас на этот месяц, ведь из года в год заранее знали! – вот в чем загадка русской души.
Не держался у простого человека запас. Классовая психология. Социальный слой диктует натуре! Мама одного друга работала директором стола заказов – маленького, скромного, микрорайонного такого. Мы зашли к ней в гости на работу, и получили предложение купить чудного дешевого крепленого, не выставленного в продажу, для своих. У меня как раз был мелкий газетный гонорар, и на двенадцать семьдесят я купил десять бутылок. Коробку обвязали веревкой, и я привез ее на метро в свою комнатку на Желябова. Я запасся на десять дружеских контактов: в гости пойти с бутылкой, или зашедшего друга принять с наливанием.
Зашла в гости милая знакомая, юная журналистка, утонченное создание а’ля грузинская княжна. Я открыл бутылочку. И мы понравились друг другу больше, чем раньше. Выпили вторую бутылочку, и между нами засветились нити судьбы. Третья бутылочка шла легко, майским ветром. Трогательная девочка пила, как артиллерист.
Она вышла от меня через трое восхитительных суток, и с ней ушло мое винное процветание. Оба не вернулись.
Нет, ежедневная жизнь была ничего. Не голый, не голодный, не бездомный? Тогда отлично.
Жизнь отравляли праздники. Преодоление полосы препятствий выматывало. Поэтому в праздник я считал необходимым выпить с утра. Чтоб организм ощутил незаурядность свободного от забот дня.
Желательно было принести торт бизе-с-шоколадом «Аврора». «Аврора» продавалась только в «Севере» на Невском. Шестьдесят штук в день. Свой цех их делал ночью и доставлял к открытию. Летели сразу. Занимать очередь перед праздником надо было с шести. Позже не имело смысла. Самые крутые занимали с вечера – таких человек пять было всегда. Они жили неподалеку и уходили перекимарить по очереди.
В восемь часов уже стояли в пять рядов человек триста. Без четверти девять начиналось бурление и сдавливание. Без трех девять покрикивали сплющенные тетки, вмятые в закрытую дверь. В одну минуту десятого возникал тихий злой вой и экстремистские призывы. В три минуты десятого дверь открывалась, и никто не мог войти – очередь слиплась в ком, и передние выдирались из него, как мухи из ловушки, жужжа и колотя лапками.
Ты прыгал в направлении кассы, суетясь ногами и растопыривая локти. Совал руку вперед и старался сдержать крик до минимального приличия: «Шесть рублей! “Аврора”!»
Схватив чек, надо скорей сверлиться и тараниться к прилавку, где уже твердеет очередь. Там кооперация: одна занимает к продавщице, а вторая к кассе, и уже протягивает чеки через голову партнерше, и та берет пять «Аврор» на двоих, и у остальных щемит в тревоге сердце, а из-за прилавка продавщица голосит поверх голов: «Маша, “Аврору” больше не выбивай!!» И ты уверенно и нагло бросаешь в стороны: «Я уже стоял! Я уже занимал! Я отходил отсюда!» – и, не дожидаясь реакции, в эту долю секунды лезешь мимо, плюя на замечания и пожелания сдохнуть, и суешь чек продавщице: ох, кажется, семь тортов еще стоят за ней! Есть!!! Взял!!!
И, счастливый и слегка гордый удачей и собой, вылезаешь наружу, держа коробку с тортом над головой, чтоб не размяли. И те, кто еще только зашли, кто приехал в семь, смотрят на тебя как на человека высшего сорта и скромно смиряются.
Тьфу. Вот такая жизнь. Подавитесь вашими тортами, ничего не надо, как я ненавижу очереди.
К вечеру будут хватать за счастье любой тортик в любом месте. Однажды в темноте я волок большой и обычный торт, и был на лету перехвачен четверкой веселых девиц, и притащен в их компанию просто в приложение к своему торту. Торт компания приветствовала счастливым ревом, интерес ко мне был несравненно слабее и проявлен позже, по остаточному принципу, когда все вкусное кончилось.
Не хлебом единым!
На третьем курсе, после стройотряда, мы стали шить себе костюмы. Купить действительно модный и хорошо сидящий костюм было невозможно. Все шили.
Несколько дней я объезжал магазины. Тряпка по сорок ре за метр мне было дорого. Нашел гениальную за двадцать четыре. Синевато-серое мельчайшее букле эксклюзивного вида и красоты неописуемой. Три метра с половиной: на тройку с жилетом.
Лучшим из известно-доступных ателье считалось имени Крупской, под аркадой Апраксина Двора. В день принимали заказы на двадцать костюмов, двадцать первый оставался лишним. Славой лучшего закройщика пользовался некто Баранов. Считалось, что попасть надо к нему.
Мой дед жил на Садовой в ста метрах. Я занял очередь в час ночи и был пятым. На пару часов я отошел к деду поспать. Стоял ноябрь.
Я был пятым, но оказался восьмым. Баранов был уже занят, и я попал к Карцеву. Это был низенький жирноватый парень лет тридцати с неуверенной лакейской спесью на морде. Сколько бортов делаем? Два. Сколько пуговиц? Четыре, обшитые, квадратом. Сколько шлиц? Две. Какая длина? Две трети бедра. Брюки в бедре? Середина бедра чуть шире обтяжки, двадцать четыре, клеш от нижней трети бедра, внизу двадцать четыре, скос два сантиметра, сзади до верха каблука. Я давно и наизусть знал, чего хотел, и вымерял семижды семь. Карцев стал смотреть с оттенком свойского чувства. В тупик он меня вопросами не поставил. Он поставил меня в пример следующему заказчику и одобрил меня коллеге. В тупик он поставил меня позднее, когда спер ткань на жилет. Блудливо юлил про перерасход и совал деньги за спертые шестьдесят сантиметров. Себе, поди, жилет спроворил из моей ткани, холуй поганый.
Но где духовная пища?!
Изящнее всего я приобрел том «Всемирки» с Киплингом и Уайльдом. Я зашел в «Подписные издания» (замучишься подписываться, все по лимиту, по блату, по распределению на производствах), где эти издания ждали своего выкупа заказчиками. Полистал спрошенный у продавщицы том, достал треху, бросил на прилавок и быстро убежал с книгой под растерянный вопль про молодого человека.
Хорошие книги продавались «холодняками» – книжными спекулянтами – в известных дворах возле букинистических магазинов. Цена – от двух до пяти номиналов.
Чемпионами были «рыжий Мандель» и «большой Пастернак». Том Большой серии «Библиотеки поэта» стихов Пастернака шел за шестьдесят рублей, терракотовый однотомник стихов Мандельштама – за восемьдесят. В магазинах ими не пахло никогда.
Кроме инвалютной «Березки». Там их три рубля цены на обложке пересчитывались по официальному курсу на пять долларов – и стояли между икрой и матрешками. Иностранцы знали: лучший подарок в советский дом – такая книга. Хозяева были счастливы.
…За что ни схватись – все имело свою историю дефицита!
В 1966 «Лениздат» выпустил прекрасный однотомник Ахматовой. Толстый, емкий, рисунок Модильяни на белом супере. Тираж сто тысяч. Пересчитали на складе готовой продукции типографии – семьдесят! Матерились, давали выговора, усиливали охрану. Допечатали тридцать тысяч. Пересчитали. Шестьдесят!
Допечатали сорок, запечатав все двери и окна. Пересчитали. Восемьдесят. Плюнули на скандал, пригласили уголовку, установили наблюдение (видеокамер-то еще не изобрели).
Боже ж мий! Выносят под одеждой отдельные тетради печатного блока, чтобы сшить дома. Переплеты на спине. Блоки под юбкой. Приклеивают пакеты под электрокары. Грузят во вскрытый пустой бензобак фургона. Ночью с чердака спускают мешки книг на веревке во двор.