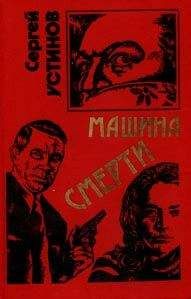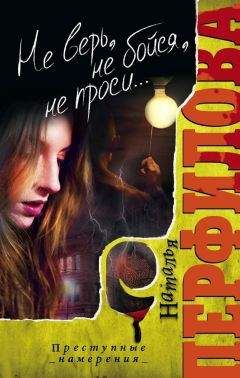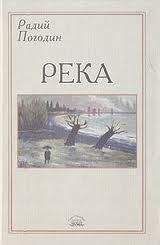Александр Филиппов - Не верь, не бойся, не проси… Записки надзирателя (сборник)
– Ты не баба, чтоб тебя обхаживать! – грубо одернул его, переходя на «ты», Самохин, – смотри, чтоб другие… не обхажнули. Или не обиходили. В тюрьме никому веры нет, и правильно. Заметь, я у тебя ни о чем не допытываюсь. Мне на показания твои, как следствие продвигается, – плевать. Я режимник, и главное, что входит в мою задачу, – тебя охранять. А присматриваюсь потому, что мне действительно интересно. Мужик ты вроде толковый и, когда за большими деньгами пошел, должен был сообразить, что просто так они не даются. Вон, в столице уже заказные убийства начались… Не страшно? Неужели деньги дороже жизни? С уголовниками-то мне все ясно. У тех просто. Добыли денег – пожрали, выпили. Много добыли – много пожрали и выпили. Еще больше – сожрали больше и выпили, да еще шлюх своих в ванной с шампанским от грязи отмыли. Ну а вам-то, башковитым, большие деньги зачем? Только не ври, что благотворительностью собираетесь заниматься, сироток да церковки обустраивать…
– Если честно, то про сироток да церкви не думал пока. Не до того как-то было… Вот вы меня сигаретами подкалываете. А я еще два года назад «Беломор» курил в своем НИИ высоких технологий, портвейн по рубль сорок лакал, на большее денег не хватало. А «Кэмел», между прочим, сигареты действительно хорошие, в них этого дерьма, что в «Приме» трещит, не намешано. И «мерседес» удобнее, быстроходнее нашей «Волги». Но дело даже не в этом. Разве не видите, как экономическая ситуация меняется? Капитализм на пороге!
– А вы и рады, – пожал плечами Самохин, – набросились, как стервятники, и давай страну дербанить, пока остальные не расчухались.
– Ну как мне вам объяснить? Не я, так другие придут. Нас в семье шестеро детей было. Отец – фронтовик, раненый с войны вернулся. Пока сыновей да дочерей до ума довел, работал как проклятый. Пятидесяти лет ему не исполнилось – умер. Мать тоже инвалид. Братья – кто шофером, кто слесарем на заводе, сестры тоже свои семьи тянут… Неужто, думаете, я забыл, как народ живет? Это моя земля, мой город. И если не я, то другой сюда обязательно влезет, но уже со стороны. И на таких, как моя мать, как братья мои – работяги, сестры замордованные, начхать ему будет. Урвал свое – и в столицу. А то и вовсе на Канарские острова. Вы, кстати, знаете, кто против меня капает?
– Да мне… к-кхе… – слукавил Самохин, – все равно как-то. Наше дело конвойное…
– Когда увидите, кто на мое место пришел, поздно будет. И страшно, – грустно закончил Кречетов, затаптывая окурок.
– И все-таки, если почуешь чего, шепни, – предложил Самохин, – обещать ничего не могу, но… чем черт не шутит? Ладно, пошли дальше. Возьми руки назад – арестованный все-таки.
Шагая следом за Кречетовым, Самохин думал о том, что, нацеливая на предотвращение гипотетического побега бизнесмена из-под стражи, генерал ничего не сказал о возможном устранении подследственного в стенах СИЗО. Не предполагал такого варианта или… он его тоже устраивал?
Едва переступив порог режимного корпуса, майор столкнулся с Рубцовым.
– Ну как, починили твоего подопечного? – ехидно поинтересовался тот. – А теперь веди его в карцер.
– Зачем? – удивился Самохин.
– Затем, что при обыске камеры подследственного Кречетова был найден напильник!
– Какой напильник?! – вскинулся Кречетов.
– Которым решетки перепиливают. С целью совершения побега, – уточнил Рубцов.
– Да что я вам, гражданин майор, граф Монте-Кристо, что ли? – возмутился бизнесмен.
– Не знаю, может, и не граф, а в карцер на пять суток пойдешь. Встань-ка пока вон туда, лицом к стене, – скомандовал Рубцов и, когда заключенный отошел, пояснил в ответ на изумленный взгляд Самохина. – Ты, майор, его постель шмонал? Вот, а как только вы с зэком в санчасть ушли, в камеру начальник оперчасти капитан Скляр влетел. И сразу к шконке. Пошарил рукой под матрацем и достал напильник, тяжелый такой, трехгранный…
– Да не было там никакого напильника, я же смотрел! – сердито возразил Самохин. – Не мог я такую железяку не заметить.
– Мог – не мог, дело не в этом, – усмехнулся Рубцов, – всяко бывает. Бывает, и не доглядишь чего. А не бывает в нашем изоляторе, товарищ майор, одного. Случаев, когда опера что-то сами при обысках обнаруживали. Им ведь мараться в грязи западло, эту работу они нам, режимникам, предоставляют. А сами, если изымают что-то запрещенное, то по наколке. Ну, если стуканет кто.
– Так ведь Кречетов в камере один, – уже догадываясь, сказал Самохин, – стучать-то на него некому! А значит, не было в хате никакого напильника! Опер его сам подложил!
– Экий ты… фантазер! – подмигнул Рубцов. – Я тебе, майор, один совет дам. В нашей конторе дело так обстоит, что в кумовские заморочки нам встревать не рекомендуется. Там у них сплошные секреты, агентурные разработки, в общем, ребята пашут на раскрываемость. Хотя многое мне в методах их не нравится. А когда служилому человеку что-то не нравится – выход один: сопи носом и не суетись. Я так и делаю, чего и тебе желаю, если до пенсии спокойно дослужить хочешь…
Самохин внимательно посмотрел Рубцову в глаза, сказал, притворно вздохнув:
– Всю жизнь крутился в зоне как белка в колесе. И вдруг на старости лет покой предлагают. Не знаю, сумею ли… Да и вы, товарищ начальник, не похожи на тех, кто молча носом посапывает.
– Да? – Рубцов потрогал свой крючковатый нос, будто желая убедиться, на месте ли то, чем следует терпеливо сопеть, потом расправил черные с проседью усы, хлопнул Самохина по плечу: – Ладно, передай жулика старшему по корпусу и отправляйся на прогулочные дворики. Сейчас будем очередную партию по камерам разводить. А насчет беспокойной службы нашей мы с тобой как-нибудь в другой обстановке потолкуем…
Из-за свирепствовавший после полудня жары прогулка пошла быстрее. Войдя в раскаленные на солнцепеке бетонные дворики, с лужами вонючей мочи, оставленной предшественниками, зэки уже через несколько минут просились назад, в камеры. Чеграш, тоже одуревший от духоты в полушерстяном, перетянутом портупеей кителе, не возражал, и к четырем часам дня прогулка всех обитателей изолятора закончилась. Режимники отправились в штаб, а Самохин задержался, сославшись на какую-то надобность, и, дождавшись, когда за «группой здоровья» захлопнулась дверь КПП, пошел в корпус, где находилась камера Кречетова.
Старшим по корпусу здесь был пожилой прапорщик Изот Силыч. Наибольшие хлопоты ему доставляли камеры, в которых содержались женщины и несовершеннолетние пацаны. Острые на язык зэчки окрестили прапорщика для удобства произношения Изнасилычем. И по коридору то и дело разносились нетерпеливые требования шалеющих в замкнутом пространстве бабенок:
– Изнасилыч! Дай нитку с иголкой! Изнасилыч! Покличь медсестру! Изнасилыч, тебе бабка минет делает? А то, если хочешь, я научу…
Несмотря на зловещую кличку, Изот Силыч был толстеньким, лысым и вполне добродушным стариком. Его затасканный форменный китель лоснился от ветхости, потемневшие звездочки на погонах сделали неразличимым звание корпусного, замызганная фуражка напоминала картуз, какие носят еще кое-где по деревням деды из казачьего сословия. И сам Силыч походил на шустрого пенсионера-колхозника, много повидавшего на веку и потому смотревшего на окружавших со снисходительной улыбкой.
Зэчек, среди которых попадались татуированные с головы до пят, прошедшие огонь и воду оторвы, прапорщик звал «девоньками», «бабоньками», а в присутствии лысого старичка корпусного какая-нибудь Маруха, впервые севшая еще при сталинском режиме, выплевывала из обветренных губ замусоленный чинарик, шмыгала носом и действительно становилась похожей не на проведшую за решеткой три десятка лет каторжанку, а изработавшуюся, света не видевшую из-за скотины, огородов, своры детей и внуков сельскую старушку.
Женские камеры всегда были самыми беспокойными в СИЗО. Оказавшись под арестом, в неволе, женщины будто теряли свое естество и, перешагнув последнюю нравственную грань, становились вовсе невыносимыми, неуправляемыми порой, способными затеять скандал и драку по малейшему поводу, и умение Изнасилыча ладить с ними, успокаивать и смиренно выслушивать бесконечные претензии, оскорбления в адрес тюремщиков от горластых баб было в здешних условиях бесценным качеством.
Самохин застал корпусного в тесной комнатенке, расположенной посередине коридора с женскими камерами. Сбросив китель, старик сидел в мятой форменной рубахе без погон и галстука, расстегнувшись по причине жары до пупа, блаженно жмурясь, прихлебывал из большого фаянсового бокала черный смоляной чай, то и дело утирая блестящую от пота лысину клетчатым носовым платком. Увидев Самохина, прапорщик радушно указал на привинченный к полу табурет.
– Садитесь, товарищ майор, чайку выпейте. В такую духоту чай – первое дело!