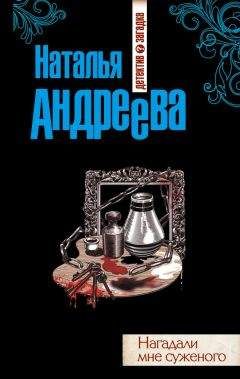Максим Гуреев - Покоритель орнамента (сборник)
Ну вот и какого черта, спрашивается, Мага вздумал мне улыбаться?
Неужели пятичасовая поездка через горный перевал, во время которой, кстати, он не сказал почти ни слова, а об улыбке и вообще говорить не следует, так расположила его ко мне. Трудно сказать!
И что же в таком случае остается делать мне, ведь, по сути, все это произошло из-за меня.
Я говорю себе: мне остается лишь наблюдать за происходящим из-за стекла, сочувствовать, сострадать, биться в стекло. А еще – заламывать руки, потому что дверь в парикмахерскую, в эту деревянную застекленную будку с шиферной крышей, закрыта изнутри на металлическую задвижку из тех, что совершенно закрашены масляной краской, и открыть их нет никакой возможности, разве что отбить молотком или расковырять плоскогубцами.
Ветер раскачивает деревья, и они наклоняются, бьются ветками в окна, повисают на проводах, которыми разлинованы опустевшие во время непогоды улицы.
Дождь начинает барабанить по железному козырьку.
Этот грохот нарастает и довольно быстро переходит в непрерывный гул внутри водяной пыли, а мутные глинистые потоки уже прокладывают вдоль тротуара извилистые, выложенные по краям битым асфальтом и песком горловины.
Потоки, каждый из которых еще совсем недавно можно было легко перешагнуть, теперь напоминают горные реки, на пенистых перекатах которых очень часто всплывают до неузнаваемости изуродованные тела. Безымянные тела!
Их закапывают тут же рядом, в безымянных могилах, или просто заваливают валунами, потому что порой пробиться сквозь окаменевший, располосованный узловатыми корнями грунт не представляется никакой возможности.
Лопаты оставляют на выжженной солнцем глине неглубокие порезы.
Наконец Павел Ваганович остановил кровотечение и завязал порезанную щеку Магомета весьма чистым, пахнущим хвойным мылом носовым платком.
Лопаты оставляют на выжженной солнцем глине ломаные царапины.
На расцарапанном фотографическом отпечатке со следами орнамента в виде рваной по краям перфорации изображены вооруженные люди. Они потрясают автоматами, видимо, что-то кричат, а еще смеются, потому что только сейчас они обстреляли шедший в ущелье автобус. Они наблюдали из засады, как под градом пуль посыпались стекла, а занавески словно взорвались, побурели от крови, замотали замершие в немом крике рты. Потом они наблюдали, как из кабины выпрыгнул водитель и побежал от автобуса. Он падал, прятался в придорожных кустах, потом вновь бежал и вновь падал, и попасть в него более чем с двух сотен метров было очень проблематично, когда же это расстояние увеличилось, то стрельбу пришлось прекратить.
Всадники Апокалипсиса спешиваются, вытирают вспотевшие лица.
Они почти не могут говорить.
Они стараются перевести дыхание.
Они захлебываются слюной.
Они пытаются прокашляться.
Они трогают распоротую очередями обшивку автобуса.
Они и их перепуганные лошади заглядывают в салон, усыпанный осколками стекла, заваленный рваной одеждой, кусками дерматина, а занавески уже окоченели, и потому они не могут развеваться на промозглом сквозняке.
Тогда один из всадников достает фотоаппарат и делает несколько снимков на память. Стало быть, там, внутри светонепроницаемой коробки, тут же свершается нечто, имеющее отношение к смещению времени и даже к его остановке, потому что памятование есть не что иное, как торможение времени, его запечатлевание хотя бы умозрительно в самодельных, с разной степенью таланта созданных снимках. Потом эти снимки можно рассматривать или же, напротив, прятать в книжном шкафу между книг, чтобы со временем просто забыть об их существовании.
На первом снимке изображен Архистратиг Михаил, который облачен в украшенную бармами кольчугу, доходящие до локтей кожаные краги с металлическими шипами и высокие, шитые серебряной нитью войлочные сапоги. Голова Архистратига обнажена, а длинные волосы его подобраны красной лентой.
Второй снимок сделан на Ленинградском вокзале. Фигура женщины, входящей в вагон, совершенно смазана, и потому нет никакой возможности увидеть ее лицо.
И наконец, на третьем расцарапанном фотографическом отпечатке со следами орнамента в виде рваной по краям перфорации изображены вооруженные люди. Они неотрывно смотрят в объектив фотоаппарата, а на их изможденных лицах написана смертельная усталость.
Вспотевшие волосы прилипли к перепачканным пороховой гарью лбам, гимнастерки в соляных разводах, зашнурованные проволокой кирзовые ботинки, выжженное солнцем небо, а на заднем плане одиннадцатиэтажное, изрешеченное шрапнелью панельное здание, так напоминающее трехпрограммный громкоговоритель «Маяк-202».
По радио передают прогноз погоды, согласно которому выясняется, что грозовой фронт уходит за перевал, за выложенные из огромных ледниковых валунов сторожевые башни, а это значит, что дождь постепенно стихнет и можно будет идти домой.
Всадник прячет фотоаппарат в колчан со стрелами.
Фронтовой репортер прячет фотоаппарат в планшет с картами.
Я достаю фотоаппарат из рюкзака, чтобы снять отражения пустых улиц Цхинвала в продолговатых лужах, края которых обкусаны автомобильными покрышками. Впоследствии меня будут обвинять в том, что на моих фотографиях почти нет людей, что город производит впечатление мертвого. Но это не так.
Например, водитель автобуса падал в придорожную траву и так лежал с закатившимися глазами, с раскрытым ртом, а откуда-то из глубины, из курящихся пороховой гарью недр его, изредка доносилось хриплое, булькающее дыхание.
Значит, его не убили.
Значит, он жив.
Всадники Апокалипсиса смотрели на этот город, будучи совершенно уверенными в том, что он уже не жилец на этом свете, что он обречен, что после их огненных стрел, после гнева небесного, что изливался из низких рваных облаков, выжить уже невозможно.
А рваные облака напоминали куски грязной клокастой ваты, которые выбивались из-под расчерченного примитивным узором дерматина. Им была обита входная дверь.
В таких случаях, когда заходишь с улицы, необходимо плотно прикрывать за собой дверь, дабы не выпускать тепло из довольно просторной, заставленной шкафами комнаты.
В шкафах хранились различные музейные экспонаты.
Навершия посохов. Бунчуки. Плетенные из бересты восьмиконечные кресты. Кольчуги с серебряными нагрудниками. Обшитые собольим мехом треухи. Рождественские маски в виде каких-то неизвестных науке рогатых чудищ с высунутыми красными языками. Войлочные остроконечные шлемы. Гладкоствольные кремневые ружья, украшенные арабским орнаментом. Старинные фотоаппараты, предназначенные для съемок еще на стеклянные фотографические пластины.
Тетя Лена стоит посреди комнаты и держит на подносе осетинский пирог фыджин, как неопознанный летающий объект – НЛО.
На пироге, натертом сливочным маслом, проступает надпись: «Сердце мудрых – в доме плача, а сердце глупых – в доме веселия».
В доме веселия слушают радио, выпивают, на кухне здесь жарят курицу и чистят картошку, а еще курят в туалете, на батарее парового отопления сушат носки, громко разговаривают по телефону.
Орут.
Телевизор орет.
В новостях показывают военные действия где-то на Кавказе – расстрелянный рейсовый автобус, убитые солдаты лежат вдоль дороги, по которой идут танки. Из выхлопных коробов в серое мглистое небо вырываются столбы черной клокастой гари.
Голос диктора вырывается из перекрученного синей изолентой динамика.
А ведь диктор никогда не улыбается, никогда! Она настойчиво пытается заглянуть в мои глаза, буквально вымучивает меня своим сверлящим взглядом, буровит, щурится, поводит выщипанными и оттого жидкими бровями, а я как-то срамно горожусь в ответ и бессмысленно пялюсь на ее напомаженные губы и хлопья пудры, свисающие с узких арийских щек.
В доме же плача все по-другому.
Здесь совсем тихо, и может показаться, что тут никого нет. Однако это заблуждение, ибо грешникам свойственно заблуждаться.
Другое дело, что далеко не каждый грешник может признаться в этом, всякий раз изыскивая возможности оправдать собственные беззакония, переложить вину на других или обвинить в произошедшем обстоятельства.
В таких случаях до лжно умозрительно разложить все «за» и «против» на весах горнего правосудия и безропотно дожидаться окончательного вердикта неумолимой стрелки, которая должна склониться в ту или иную сторону или же, напротив, замереть в полуденном положении, так и не найдя возможности вынести окончательный приговор.
Да, так бывает!
Но что же тогда остается делать грешнику, великому грешнику?
Ему остается лишь лежать на ковре лицом вниз и всматриваться в окружающие его орнаменты – в эти тканые цветы и звезды, в этих диковинных зверей, вчитываться в слова, состоящие из неведомых букв, и прислушиваться к собственному сердцу, которое теперь именуется «сердце мудрых».