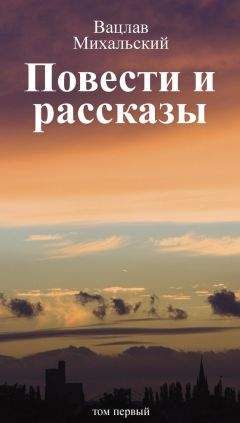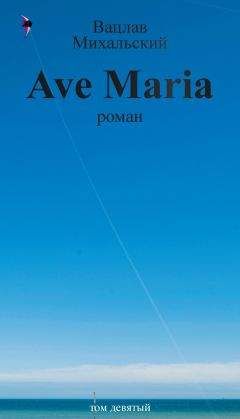Вацлав Михальский - Собрание сочинений в десяти томах. Том третий. Тайные милости
С этими печальными размышлениями он и добрался до места, по адресу Лермонтова, 25, берег моря.
Я не хочу, чтоб свет узнал
Мою таинственную повесть;
Как я любил, за что страдал,
Тому судья лишь
Бог да совесть!.. —
подумал Георгий и порадовался, что еще не все позабыл, что кое-что из классики осталось в голове со времен горячечной юности, когда душа его томилась в ожидании желанной близости с еще неизвестной ему женщиной.
Он жил как во сне, а, оказывается, была на свете другая жизнь и были другие ценности, которыми жили другие люди и которые имели мало что общего с теми ценностями, которыми жил он сам. Как же прошла его молодость? У Георгия было такое чувство, будто он проспал все тридцать три года своей жизни на печи, как Илья Муромец, и вот теперь разбужен и призван наконец к ответу… А ведь с внешней точки зрения его жизнь складывалась удачно: он еще молод, а у него уже большие дети, здоровая жена, великолепная квартира, крупная должность. И, оказывается, все это, вместе взятое, он готов отдать за час наедине с желанной, но, в сущности, малознакомой ему женщиной, за час в хибарке на берегу моря, в «шанхае», где живут люди, по мнению знакомых Георгия, недостойные внимания, а на поверку выходит, что у них-то и есть жизнь, а у него фикция. Они живут своей жизнью, а не выдуманной, не сконструированной нарочно, не подогнанной насильно под соображения здравого смысла, настолько здравого, что уже не остается места для живого движения души: так в дистиллированной воде не может дышать даже крохотная комнатная рыбка. Ах, сколько задушено им в самом себе живых чувств, неродившихся поступков… В памяти Георгия смутно встало юное личико любившей его Марьяны. Ее родители преподавали в той же аульской школе, где он когда-то директорствовал. Мать у Марьяны была русская, вела алгебру и геометрию в пятых-шестых классах, отец – чеченец, работал завучем, преподавал русский язык и родную речь в младших классах. И мать и отец Марьяны были, каждый по-своему, удивительные люди – не случайно родилась у них такая дочь и не случайно назвали они ее по имени героини толстовских «Казаков»…
…По черному горизонту, как будто с неба, спускалась одинокая звезда. Большая, желтая, она то появлялась, то исчезала – из высокогорного аула спускалась в долину машина, спускалась медленно, то пропадая из виду среди лесистых склонов гор, то приманчиво сверкая дальним светом. Это был обыкновенный колхозный грузовик, а для него – звезда, сходящая с небес…
Так храм оставленный – все храм,
Кумир поверженный – все Бог!
С тех пор он видел ту звезду всегда, когда вспоминал Марьяну…
А в тот решающий час, не отрывая взгляда от черных контуров гор, он подошел к высокому обрыву над речкой, снял плащ, расстелил его на молодой, еще короткой траве, прилег, опершись на локоть, с беспричинным страхом и радостью продолжая любоваться своим открытием. Большая, желтая звезда то появлялась, то пропадала из виду в черных безднах почти слившихся между собою небес и гор. Глубоко внизу глухо перекатывалась по камням вода. Вдруг из-за черной глыбы ореховой рощи, спиной к которой полулежал Георгий, ударил молодой месяц, и узкая полоса речки тускло блеснула на дне ущелья. Под могучими полудикими деревами ореховой рощи косо взбегали на холм стелы аульского кладбища; некоторые из них были надписаны уже не по-арабски – по-русски, а на похожих на муравьиные кучки могилках детей торчали лишь хворостинки – детям не полагалось памятников, – хворостинок было немного: в последние годы дети умирали редко, не то что в прежние времена. Каждую весну аульская община тянула жребий – кому собирать урожай в кладбищенской роще. Хозяин будущего урожая становился на весь год и смотрителем кладбища, отвечал за то, чтобы все здесь было в полном порядке. Орехи плодоносили не каждый год, поэтому жеребьевка проводилась ранней весной, еще до завязи, когда определить будущий урожай практически невозможно. Многие оставались ни с чем, зато те, к кому был милостив аллах, зарабатывали на этом деле большие деньги и уважение соплеменников.
Георгий смотрел на спускавшуюся с неба звезду и заставлял себя думать о Наде, с которой к тому времени у него уже был роман. О Наде почему-то не думалось, мысли рвались, путались, хотелось свободы, как будто его уже связали по рукам и ногам.
…Она шла за ним по пятам и теперь неслышно подкралась сзади и, по-детски закрыв его глаза ладошками, прижалась к плечу Георгия твердой девичьей грудью. Не давая ему опомниться, стала горячо целовать его в голову, в шею, в уши – куда попало, так, что он не успевал уворачиваться, и они едва не полетели в пропасть.
– Марьяна, Марьяна, – шептал Георгий, стараясь высвободиться из ее объятий. – Марьяна! – И сам не понял, как поцеловал вдруг ее в губы – горячо, длительно, до сладкого звона в ушах, а потом целовал при свете молодого месяца ее крепкую белую грудь, которой еще не касалась рука мужчины.
Нельзя сказать, что появление девочки было для Георгия полной неожиданностью, он давно уж приметил, как пламенеют при нем ее полные губы, как жадно смотрит она на него во время уроков своими черными, сияющими во все детское белое личико глазами, какая высокая у нее грудь, какие сильные бедра, какой тонкий к гибкий стан, – в свои пятнадцать лет восьмиклассница Марьяна была уже вполне сформировавшейся женщиной.
Только чудо спасло его от последнего шага – вдруг пробежала рядом с ними рыжая лисица.
– Лиса! Лиса! – вскрикнул Георгий, и Марьяна очнулась, и заплакала радостными слезами, и сказала ему, что любит его еще с осени, с самого первого дня, когда он вошел в класс.
Рыжая лисица была уже где-то далеко, в ореховой роще; юркая по кладбищу, она повалила хворостинку, что воткнули над могилкою не зажившегося на свете младенца, оглянулась в ту сторону, где сидели Георгий и Марьяна, понюхала своею длинной мордочкой воздух – из аула донесло запах куриного пера, – там-то и ждали ее делишки…
Георгий оцепенело думал, что он – директор, что Марьяна – ученица, что у него есть Надя…
– Марьяша, давай по домам, а?
– Давай, – сказала она потерянно, и они пошли от кладбищенской рощи в разные стороны, чтобы никто не мог увидеть их вместе, когда будут входить в аул.
Возвратившись в каморку, которую он снимал при школе, Георгий пролежал всю ночь без сна на узкой железной кровати, горячо желая Марьяну и боясь, что вот сейчас, в любую следующую секунду она стукнет в окошко и он не устоит, откроет ей дверь. Наверное, если бы она пришла тогда, так бы и было. Но она не пришла.
Когда пред общим приговором
Ты смолкнешь, голову склоня,
И будет для тебя позором
Любовь безгрешная твоя…
Марьяна… Как росло в нем день ото дня неодолимое влечение к ней… как он находил в себе силы душить разгоравшийся против его воли огонь…
Когда он был в армии, Марьяна писала ему о том, как хорошо он читал на уроках Лермонтова, как любили его, оказывается, ученики и учителя, как плохо без него в школе теперь… Потом, когда он уже был женат и жил в городе, Марьяна разыскала его однажды… Они шли по улице, дул горячий ветер «Магомет». Встречные мужчины оглядывались на них. Она выросла умной, начитанной и очень красивой девушкой, такой яркой, каких он никогда и нигде не видел. Оказывается, Марьяна окончила школу с золотой медалью. Георгий поздравил ее и сказал, что, дескать, теперь перед нею открыты все дороги, что она может поехать учиться в Москву, а там выйдет замуж за молодого английского лорда, или за великого художника, или за арабского шейха. Утром он читал в газете статью о советских девушках, вышедших замуж за иностранцев, вот и молол эту первую подвернувшуюся на язык галиматью.
Через месяц она вышла замуж за молодого аульского шофера, а еще через полгода, избивая ее по пьянке, ревнивый муж проломил Марьяне череп. И теперь он сидит в тюрьме, а она, с нейлоновой латкой на голове, – в сумасшедшем доме, здесь, в городе. Нынешней весной, проведывая в центральной больнице товарища, Георгий вдруг увидел ее за железными прутьями в окне этого дома. Она сидела на подоконнике и баюкала тряпичную куклу, – может быть, то, что в ее воображении было ребеночком Георгия. Она посмотрела на него долгим, припоминающим взглядом, но не узнала. А он постарался быстренько исчезнуть из поля ее зрения, уйти в кусты в самом прямом смысле этих слов. Он так спешил, что поцарапал веткой боярышника щеку и едва не лишился глаза. Потом ему еще долго снилась рыжая лисица, промелькнувшая однажды рядом…
А теперь, стоя на железнодорожной насыпи над Катиным домиком, он подумал, что, может быть, каждая задушенная любовь – как поживший на свете двадцать минут бабы Мишин Валерка? Может, как его душа, она так же витает в мире без приюта и нет над ней никакого, даже самого малого знака, хотя бы той хворостинки, что ставили младенцам на аульском кладбище. Он так и не знает до сих пор, любил ли Марьяну? Желал – это точно, желал постоянно, горячо, долгие годы, а любил ли? Если любил, то это он виноват в ее судьбе. Он один…