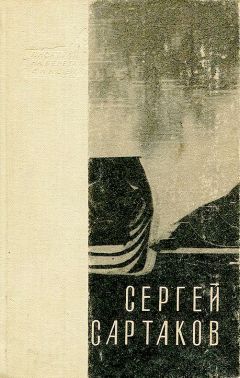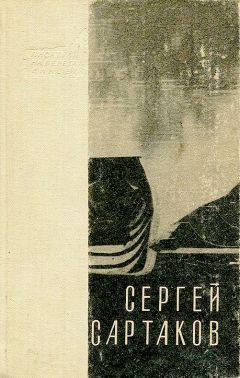Наталья Громова - Ключ. Последняя Москва
Двор состоял преимущественно из жителей подмосковных деревень, поэтому у каждой девочки или мальчика были крестные: они ходили в церковь, отмечали церковные праздники. Моя самоуверенность действовала на них; я стояла на ящике посреди двора и пламенно разоблачала проделки служителей церкви. Кончилось тем, что две беременные женщины втиснули меня в подъезд и, буквально напирая на меня животами, стали выдавливать из меня отречение от своих взглядов. Но я стояла на своем. Они плюнули и сказали, что сама я могу думать всё что угодно, но их детей должна оставить в покое. На это я, хотя и без энтузиазма, но согласилась.
Через некоторое время со мной стали происходить странные вещи. Днем я была вполне атеисткой и следовала дорогой своего отца, а ночью или же в моменты между сном и явью я стала испытывать странные страхи.
После походов в кремлевские соборы, где со стен с фресок на меня внимательно смотрели святые, которыми сплошь было заполнено пространство храмов, я стала чувствовать на себе множество взглядов, строгих и безрадостных, и потом они долго меня преследовали. Они внушали мне такое чувство страха, что я с ужасом стала относиться к лицам, изображенным на фресках. Иногда ночью ко мне во сне или в состоянии между сном и явью приходили Ангелы или сам Господь Бог. Чем больше я гнала их, тем чаще они меня посещали. Я видела совсем явственно, как они стоят на облаке и укоризненно смотрят на меня. Обычно они ничего не говорили, а только, глядя на меня, печалились. Немое присутствие их в моей жизни создавало какую-то тайну моего бытия, с которой я не понимала, что делать. Я не могла признаться отцу, что ко мне вот так запросто являются те, против кого я так усиленно борюсь, и поэтому бежала к маме и говорила, что я, наверное, схожу с ума…А здесь, в глубине советской жизни, как в скорлупе ореха, продолжала жить иная цивилизация.
Когда-то семья Шаховских жила на Зубовском бульваре в доме пятнадцать, где в 1912 году занимала весь этаж; здесь были не только ванна, но и газовая колонка. Князь Дмитрий Иванович Шаховской был главой кадетской партии, а в 1917 году стал министром Временного правительства. Потом квартиру уплотнили до большой комнаты, перегороженной на небольшие клетушки. Детей Михаила Владимировича Шика и Натальи Дмитриевны Шаховской, старую бабушку Сиротинину и тетю Аню Шаховскую, сестру матери, – весь коммунальный рой друзья называли «Зубовским муравейником».
Историю деда Дмитрия Ивановича Шаховского я слышала еще в середине 1980-х годов от Натана Эйдельмана. Он говорил страстно и с огромной болью, как Дмитрия Ивановича, внука декабриста Шаховского, внучатого племянника Чаадаева, посадили в 1938 году, а затем, несмотря на мольбы, запросы его близкого друга Вернадского, расстреляли.
Потом я прочла поразивший меня сюжет о молодых людях 1880-х, которые создали «Братство», купив поместье Приютино, где собирались. Кроме Шаховского и Вернадского, в нем были И.М. Гревс, С.Ф. Ольденбург, А.А. Корнилов – будущие крупные ученые и академики. Братство в каком-то смысле должно было заменить им христианство, главной стала идея соборного сознания.
Вслед за Толстым они утверждали, что жить так, как они жили прежде, – нельзя. «Работать как можно больше. Потреблять на себя как можно меньше. На чужие нужды смотреть как на свои». Поколение их детей не разделяло идей строительства новой веры отцов, а, напротив, уходило в традиционное православие.После предполагаемой гибели друга в застенках Лубянки Вернадский написал: «Дмитрий Иванович замучен… Но его благородная личность оставила глубокий след, который даст свои плоды. В нашем братстве его роль была исключительна». Именно он уговорил Вернадского вернуться из эмиграции в Россию. Сам Шаховской видел спасение экономики в двадцатые годы в кооперации и даже ходил с лекциями в Госплан, правда, его услуги вскоре там не понадобились. Затем он занялся краеведением, надеясь, что, просвещая народ, можно будет увести его от пропасти. Он оставался романтиком, но ближе к 1938 году его всё чаще охватывала обреченность. Он прятался в свой угол за перегородку, старался не выходить, ни с кем не общался. Его семейная жизнь была трагична: двое из четырех детей покончили с собой; жена, несмотря на общую романтическую юность, полную высоких идеалов, вторую половину жизни была занята самой собой. Но зато обе дочери – Наталья и Анна – оказались в высшей степени самоотверженными и благородными людьми.
Наконец Дмитрий Михайлович Шаховской сказал, что решил отдать дневники Варвары Григорьевны.
Передо мной стояли ящики. Мы привезли их на такси в музей Цветаевой. Я смотрела на них и испытывала счастье оттого, что могу открыть и узнать всё. Но вскоре радость стала сменяться отчаянием. Открыв первую же тетрадь, я поняла, что Варвара Григорьевна ежедневно вела свои дневники многие годы. Как это прочесть? На это уйдет год, если не больше? А как отобрать, что печатать, а что нет?
Дневники Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович
Музей Цветаевой: в ореховой скорлупке
Погиб корабль. Но крохотная шлюпка
Каким-то чудом всё еще цела.
Но долго ль продержусь в ореховой скорлупке
Без снасти, без весла?
О, лучше тем, кто в безднах океана
Уже вкусил спасительный покой,
А здесь их вопль последний непрестанно
Дрожит над тишиной морской…
Варвара Малахиева-Мирович
Дневники Варвары Григорьевны попали в дом Веселовских еще при ее жизни. Она боялась, что тетради исчезнут, пропадут. Ольга укладывала их стопками, нумеруя одну за другой.
Было видно, как она работала над тетрадями, делала выписки. На каждой из них Ольга написала, повторив сто восемьдесят раз:
«Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович. Род. 29 марта 1869 – ум. 16 августа 1954.
„О преходящем и вечном“».
Дневники открывались 23 июля 1930 года, а заканчивались 14 мая 1954 года.
Потертые рыжие, синие, красные обложки, детские тетрадки и альбомчики для рисования, толстые и тонкие, – все они глядели на меня с вопросом: а что, собственно, я хочу узнать?
Я же хотела увидеть продолжение жизни Ольги Бессарабовой глазами ее старшей подруги. Узнать всё о гибели Добровского дома. Пройти военные годы с теми, кто выжил. Все эти истории находились в этих тетрадях.
Никогда я еще не видела, как дневники, словно поднесенные друг к другу зеркала, отражались один в другом.
Всё то время, пока я читала тетради Ольги Бессарабовой, насыщенные письмами и стихами Варвары Григорьевны, я ощущала ее постоянное присутствие и у меня неизбежно возникал вопрос: кто же она?
Поэтесса? Философ? Странница?
Михаил Шик и Варвара Малахиева-Мирович (второй и третья слева), Ольга Бессарабова (третья справа, сидит). Сергиев Посад, 1923
Перед Варварой Григорьевной были открыты двери множества петербургских домов, когда она писала всевозможные критические статьи об известных писателях и рецензии на театральные постановки и была редактором журнала «Русская мысль», где ее на этом посту сменил Валерий Брюсов.
В 1910-е годы одна знаменитая петербургская писательница сказала Варваре Григорьевне, что сделает из нее «заправского литератора», что вызвало в той внутренний протест, и она сбежала из Петербурга.
Стихи она писала непрерывно, но никогда над ними не работала. Их собирала и переписывала за ней Олечка Бессарабова, скопив и сохранив четыре тысячи стихотворений.
Недоброжелатели называли ее теософкой, «мистиком», Флоренский дал ей прозвище «оккультная топь», о ее стихах некоторые говорили, что это «декадентские пустячки».
Однако те, кто ее любил, – а их было немало – считали ее прозорливой, умной, талантливой, исключительной. Ее бесконечно ценили в добровской семье – от Филиппа Александровича, называвшего ее «Вавочек», до маленького Даниила Андреева, который уже взрослым писал ей с сыновней нежностью: «…чувство, которое меня сейчас переполняет, – это любовь к Вам. Любовь довольно странная и чудаковатая».
На групповой фотографии выпускниц училища Сергиева Посада 1923 года, у которых Варвара преподавала, она стоит в каком-то темном не то платье, не то балахоне, а внизу с веткой сирени – Ольга Бессарабова. Варвара Григорьевна хотя несколько сурова, но значительна и, несмотря на то, что ей уже больше пятидесяти, красива. Ее глубокие и лучистые глаза смотрят со снимка взыскательно и строго.Почти всю жизнь Варвара Григорьевна примеряла к себе смерть. Не из пессимизма, а потому что считала, что смерть – это иное рождение. Она даже написала план своей «Мистерии старости»:
«1-е действие. Ужас приближающегося разрушения, последние вспышки молодости. Попытки сопротивляться – борьба с неотвратимым. Жалобное недоумение (45–55 лет).
2-е действие. Усталость от борьбы. Боль привыкания к новому. Элегия воспоминаний. Трудность восхождения на крутизну (55–60 лет).
3-е действие. Посвящение в старость. Да – новой ступени. Растущее одиночество. Растущие недуги. Растущее мужество. Первые ростки в потустороннее.