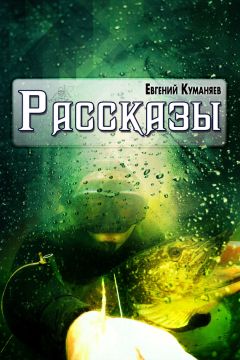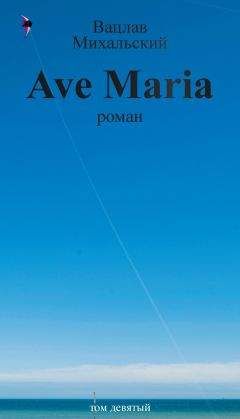Вацлав Михальский - Собрание сочинений в десяти томах. Том седьмой. Храм согласия
– Загляни послезавтра вечерком.
– Извини, – отвечал Ираклий Соломонович, узнавший еще раньше о существе предстоящего события от Натальи, – извини, это дело семейное, мне неудобно. Тогда и…
Папиков понял Горшкова: он ведь имел в виду, что если приглашать его, то надо приглашать и Ивана Ивановича, и многих… Папиков не обиделся, на месте Горшкова он поступил бы точно так же.
На столе стояла стопка с выпивкой, накрытая ломтиком черного хлеба. К стопке была приложена маленькая фотокарточка матери, которую Папиков всегда носил с собой в документах, и лежал треугольничек письма из Уфы, в котором соседка писала ему, что бережет для него то, что берегла его мама: пожелтевший от времени его, Папикова, младенческий чепчик и бокал, из которого пил Пушкин, – соседка писала, что в Питере машины на эвакуацию подъехали к дому вдруг и было велено взять с собой только самое ценное, и вот мама взяла его, Александра Суреновича, чепчик и пушкинский бокал.
– А откуда у вас пушкинский бокал? – горячо спросила Александра.
– Маме достался от ее бабушки, а ей откуда, я не знаю, – отвечал Александр Суренович. – Помню его – так, чуточку зеленоватый. По глупости своей не знаю, а мог бы и докопаться.
– Красивая у вас мама, – сказала Александра.
– Мамы все красивые – это правда, – вставила слово Наталья. – Налили?
Налили.
– Царство небесное! – сказала Александра.
Выпили.
Еще налили.
Выпили.
Разведенный водой и закрашенный вишневым вареньем спирт напомнил Александре ее первую в жизни выпивку на праздновании двадцатидевятилетия главврача ППГ Адама Домбровского. Она вспомнила черноусого начальника госпиталя Грищука, других ребят – хирургов, вспомнила перелесок у песчаного карьера, заполненного прозрачной водой, зеленую плащ-палатку на земле, на которой были разложены закуски… Вспомнила даже слово в слово, как сказал первый тост Константин Константинович Грищук: «Сегодня нашему главному хирургу, нашему уважаемому Адаму Сигис… Сигизмундовичу исполнилось двадцать девять лет, еще годок, и стукнет тридцать, а там уж, как говорится, поедет он с ярмарки. А пока молодой, давайте за него выпьем!» Все сдвинули граненые стаканы со спиртом, все были молодые, лихие, пили неразведенный, все были согласны с К. К. Грищуком, что после тридцати начинается старость. Сашенька не хотела, а взяла в руку свой стакан со специально для нее разведенным водой и подкрашенным вареньем спиртом, под призывными взглядами всех поднесла его к общему кругу и стала чокаться со всеми подряд, и стакан плясал в ее дрожащей руке… Прошло всего три года, а кажется – вечность, или все это вообще приснилось? А та воронка от бомбы, где сгинул Адам, наверное, заросла бурьяном… Вспомнила она, и как пели тогда…
– Говорить неохота, спой, Саша, – как будто прочитав ее мысли, попросила Наталья, – а мы подпоем. Подпоем? – обратилась она к фронтовому мужу.
– Давайте по третьей, а тогда и споем, – согласился Александр Суренович.
Налили.
Молча выпили.
Закусили с удовольствием, смачно, хозяин очень ловко ухаживал за дамами, Александра впервые видела его таким домашним, таким компанейским.
Пели негромко, но очень слаженно, как будто не в первый раз. Оказалось, у Папикова был довольно красивый по тембру, глубокий, чуть-чуть глуховатый баритон, именно эта глуховатость, бывшая вроде бы изъяном, придавала его голосу шарм. Наташа тоже пела хорошо, но самый красивый и чистый голос был у Александры, она и заводила одну за другой старые народные песни…
…Я о прошлом теперь не мечтаю,
Только сердце затмила печаль.
И я молча к груди прижимаю
Эту темно-вишневую шаль…
Через несколько дней после поминок Александра и Папиков, как обычно после тяжелой и безуспешной операции, переводили дух под миндальным деревом; на Сандомирском плацдарме в немецком госпитале они обычно сидели под фикусом в коридоре, а здесь, в Праге, – во дворике бывшей пражской больницы для бедных, под невысоким миндальным деревом. Дерево еще не растеряло листья, но они пожухли – кончался сентябрь, и хотя было еще теплым-тепло, однако дни становились все короче, и Ираклий Соломонович Горшков обеспокоился подготовкой как помещения, так и личного состава к зиме. Уже была Хиросима, уже капитулировали японцы, много чего было, и плохого, и хорошего, не дождались только госпитальные самого желанного – демобилизации. Все лето 1945 года Александра томительно ждала, а в сентябре сказали, что «увольнение в запас отложено до особого распоряжения».
Они просидели молчком минут тридцать, а потом Александра спросила:
– И как нам теперь?
Папиков понял, о чем она спрашивает, у всех госпитальных и армейских было на уме одно: домой, домой, домой…
Папиков жевал свой специальный табак и ответил не сразу. Долго сидели молча, потом он прошел вдоль забора, подальше от скамейки, сплюнул табачную жижу, а вернувшись, сказал:
– Формируются части, которые останутся в Восточной Европе надолго. Наверное, до весны дело протянется, а то и до следующей зимы, но я обещаю отпустить вас с первой партией. Мне все равно, где работать, а вам надо окончить медицинский институт.
– Мне теперь двадцать пять, а если еще год, когда же я его закончу – старухой?
– Александра, – Папиков посмотрел на нее внимательно большими печальными глазами, – во-первых, тридцать два – это не старость, а во-вторых, вам незачем учиться шесть лет – вы не от школьной парты, у вас красный диплом медучилища и фронтовой опыт операционной сестры высшего класса.
– Это вы – высшего, – потупилась Александра, – с вами любой станет лучшим.
– Я не льстец. – Папиков сделал большую паузу. – Хочу вам сказать то, что говорил очень немногим… Я всегда с интересом наблюдаю за вами в операционной, у вас безошибочное чутье, вы обучаемы в высшей степени – это редкие качества. А что касается шести лет учебы, то мы с Иваном Ивановичем напишем всякие бумажки, чтобы можно было сдавать экстерном и сразу на четвертый курс, а там на специализацию – и дело в шляпе.
– По блату? – смущенно усмехнулась Александра. – По блату я не хочу.
– Вы почти готовый хирург.
– И в хирурги не хочу – хватит. Я хочу быть детским врачом.
– Ну уж нет! – вдруг резко сказал Папиков. – Нет, нет и нет!
На этом их разговор неожиданно прервался: к госпиталю подъехали сразу четыре виллиса: два с охраной, а два – с начальством.
Охрана быстро рассредоточилась по периметру госпитального дворика, а начальник госпиталя Иван Иванович, Ираклий Соломонович и с ними какой-то малорослый узкоплечий генерал-лейтенант в высокой фуражке на большой голове, с длинным носатым лицом, направились к ним.
– Важная птица, – проворчал Папиков, поднимаясь со скамейки, – чего-то будет…
Александра улыбнулась – прибывший генерал и правда был похож на какую-то замысловатую птицу с непомерно большой головой и маленьким телом с покатыми плечами.
– Личный состав, на построение! На построение! – побежал по госпиталю Ираклий Соломонович.
Иван Иванович подвел приезжего генерала к Папикову и Александре.
– Полковник Папиков! – неумело вытягиваясь, представился главврач.
Не отвечая на козыряние, генерал протянул ему руку и произнес совсем не по форме:
– Кто же вас не знает, Александр Суренович, только с вашей помощью на мне все как на собаке зажило. Это мой первый вылет из Москвы.
Папиков промолчал, он понял, что как-то соприкасался с жизнью генерала, но как – вспомнить не мог.
– На Сандомире, – подсказал Иван Иванович, – это вы и Александра, – он кивнул в сторону Сашеньки, – ну и Наталья, конечно, оперировали товарища генерал-лейтенанта.
– Да? И вы?! – Маленький генерал с живым интересом взглянул на Александру. Она была женщина видная, и, наверное, ему примерещился какой-то шанс. И тут он сделал невероятное – и по тем временам, и по своему служебному положению: взял и театрально поцеловал ей руку. К всеобщему удовольствию, не обошлось без курьеза: большущая фуражка слетела с его головы наземь, под ней обнаружилась шевелюра густых, рыжих, курчавых волос, и Александра вдруг обратила внимание, что генерал совсем молоденький, с кадыкастой шеей, длинным носом, большим тонкогубым ртом, с двумя верхними металлическими вставными зубами, придающими его вытянутому лицу какое-то странное выражение игрушечности.
Словно материализовавшийся из воздуха адъютант в чине капитана ловко поднял, отряхнул и обтер генеральскую фуражку рукавом своего новенького мундира.
Возникла неловкая пауза: всем хотелось смеяться, но люди сдерживались изо всех сил. К счастью, тут выскочил из дверей госпиталя Ираклий Соломонович и закричал визгливо, заполошно:
– В две шеренги становись!
Следом вынесли длинный стол, покрытый красным сукном, скоро он заполнился красными картонными коробочками разных размеров, которые принесли из виллисов.