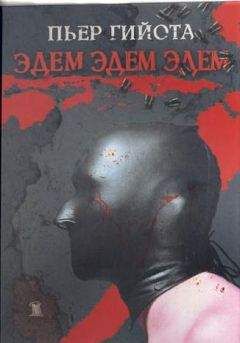Илья Бояшов - Эдем
Господи, все было предопределено!
Пачка «Кэмэл», извлеченная из заднего кармана заляпанных глиной брюк, смятая, словно лицо алкоголички (внутри прилипли друг к другу две оставшиеся близняшки), выглядела форменным издевательством.
Огнем здесь не пахло, его просто неоткуда было взять.
А вот «Кэмэл» пах, он еще долго мучительно-сладостно пах. Прошло еще огромное количество времени (я не говорю недель, месяцев, лет, я перестал их считать, с горьким смехом смотрел я потом на ранние наивные свои зарубки) в этой дурной реальности, которая, словно мешок зерном, заполнилась доверху нескончаемым, ужасающим в простоте своей, идиотским трудом («рай должен сверкать, сынок») – без праздников, без отдохновения, без позабытого почти сразу обыкновенного сладостного человеческого ничегонеделания, вкусного, как арабская халява, – прежде чем пачка, запах которой я так жадно вдыхал, распалась на атомы.
Оставим за кадром ломку, забудем о жевании бетеля и хвои, о набивании рта кизилом и листьями мяты, о прочих уловках и судорогах. Прочь слезы! Только по этому поводу я выдавил их целое озеро.
Увы, с курением было покончено.
Что касается наркоты – униженно, пылко я прислуживал маку, пропалывая грядки с истинным остервенением афганца, но, поверьте, попытки дилетанта слизывать сок с бутонов, как, впрочем, и выдавливать содержимое знаменитого кактуса, всякий раз приводили к смехотворному результату. Кока давала самый жалкий эффект – листья ее могли разве что взбодрить после бессчетных возвращений от пруда к далекой (и, разумеется, самой жадной на выпивку) сесбании пурпурно-красной (sesbania punicea). Что поделать: в этом дурацком опрокинутом мире все было не так, как в том! Боже праведный, где они, протянутые дорожки великого кайфа, рассыпаемые по столу в полутьме казино, при одном виде которых пробивала мои ноздри долгожданная дрожь? И тот несказанный полет после каждого вдоха! Где он? Пребывая слугой целых зарослей первоклассной индийской «травки», я едва не ревел белухой, вспоминая сладкий дымок и свою ловкую машинку для строгих, безукоризненных, как английские сорочки, джойнтов: Господь Бог мой свидетель – я лишился самых невинных удовольствий. Насмешка, насмешка невиданная насмешка!
Пару слов об алкоголе. Вдоль троп и аллей эдема резвились виноградные плети, и каждая гроздь «изабеллы» была тяжела, словно грудь разбитной рубенсовской вакханки – но где прикажете их давить?! Ведь не в ужаснейших и дырявых ведрах.
Я ОСТАЛСЯ БЕЗ ВЫПИВКИ!!!!!!!!!!!!
Только вдумайтесь, господа. Осознайте весь этот библейский ужас!
Холодная vodka (единственное, что восхищает альбионских лордов в лукавой северной Скифии): поллитровка ее (если взяться за эту бутылку, рука не вынесет больше двух-трех секунд поистине дикого холода), на серебряном подносе в брусках алмазного льда доставляемая к столику; рюмка с четко рублеными гранями, или лучше, граненый стакан, этот восхитительный мухинский шедевр, а также селедочный хвост и огурчик, господа, огурчик, незадолго до подачи словно зародыш плававший в животворящей жиже рассола, освобожденный вилкой от материнского лона банки и нетерпеливым пальцем – от прилипшего смородинового листа. Глоток ледяной амброзии – какофония чувств, апофеоз гастрономической страсти, «Весна священная» языческого в своих страстях Стравинского, истинный марш из прокофьевского «Ромео»! Где ты, водка?!
А джин (этот старый добрый шотландский одеколон), ирландское виски, воспаляющая желудок и нервы текила, амаретто с мартини, мюнхенский шнапс, кальвадос пропойцы Ремарка, «бурбон», наконец?! Где вы, друзья?
Коктейль «Мечта яппи», поглощаемый вечерами (пекло, нега, вентилятор, торшер, неизменный махровый халат после душа и мокрые пятна от пяток по всей квартире – на парусах подплываешь к заветному бару, ах, все то же молодоженство, «дорогая, не желаешь ли пропустить по стаканчику?» – «разумеется, зайчик!»), вот рецепт «Мечты яппи»: двести граммов «Вдовы Клико», сто пятьдесят ликера («Клубничный», «Рябиновый», пусть даже «Кофейный»), несколько капель облепихового настоя, чайная ложка бальзама «Биттнер» – лимонная долька, свистящая словно свирель, соломинка: «люблю тебя зайчик, ты бесподобно милый» – «рыбка моя, я готов принести тебе солнце»… Где ты, коктейль?
Благородный гаванский ром – откликнись же, наконец! Я погибаю.
Квинтэссенция человеческой цивилизации, ее гордость, ее вершина, совершенство ее технологического ума – жестяная пивная банка. Подай хоть ты свой бархатный голос!
Нет ответа.
Были грезы о мясе, изматывающие не хуже местноболотных мошек.
Сколько лет, оказавшись в этой тюрьме, собакой Павлова я исходил на слюну. Впрочем, какое там исходил. Я заливался ею. Каждый раз, как только рвать начинал зубами спаржу, свеклу, морковь, редис, как только принимался хрупать сырым картофелем, запивая его теплой мутью из все того же пруда, миражом дрожал перед бедными моими глазами настоящий мясной коктейль: бекон, котлеты по-киевски, по-берлински, австрийские отбивные (истинный венский вальс!), ромштексы, бифштексы, бефстроганов (зайка-жена так славно его готовила!). Черты лица ее в конце концов растворились, но до мельчайшей микроскопической трещинки помнилась мне тарелка, полная восхитительных этих кусочков.
Мерещились также рульки; окорочка; подобные рентгеновским снимкам, розовые, словно попка младенца, пластиночки утренней буженины; говядина; курятина; гусятина; утятина (бульоны, духовка, жарка); бекасы в собственном соку; вальдшнепы с укропом и вишней; пузатый бочонок индейки; шипящие куропатки (масло, сковорода); вновь говядина; вновь бекон; «вепрево колено» (где-то там, в бесчисленных пражских подвальчиках, официанты и по сей день шатаются под тяжестью блюд), прочее, прочее, прочее (стоны мои бесконечны). Наконец, посещали меня самые прилипчивые видения: решеточные уик-эндные барбекю и унизанные бараниной, острые, словно кавказская страсть, шампура над раскаленным мангалом.
Несчастный австралопитек – я уповал лишь на дождь. Мечты о воде небесной преследовали долгое время – я уверил себя: рано или поздно здесь разразится гроза и Бог наконец-то придет на помощь, расщепив молнией хотя бы вон ту ель голубую канадскую. Я представлял себе, как разбегается пламя. Всесилен яркий язык его посреди цветников и рокариев. А после ливня – благословенные угли: их не сможет залить никакой ураган. И костер из сухих, смолистых, спрятанных ранее под навесом ветвей, над которым в одно мгновение можно сготовить хотя бы и попугая, ощипав, выпотрошив подлеца, насадив на прутик, без соли и без приправ (о том, почему с таким наслаждением отправил бы в свой желудок все это поганое племя, поведаю вам позднее). Сколько лет изводили меня безумные грезы. О, невыносимое царство пресных овощей. А фрукты! Собачий блюз, заунывный спиричуэлс! Уже чуть ли не на третий день заточения сделалось омерзительным манго. Невыносимыми стали ананас и папайя. Не проскочило недели плена – перезревшие бананы (отвратительные слизняки) разъезжались под моими босыми ногами: с наслаждением маньяка давил я целые связки. Гранат, авокадо, лимон? Настоящая пытка! Оливы? Забудем их как можно скорее: тоска разъедает. Подайте хотя бы крота, хотя бы землеройку – зубами готов сдирать с них шкурки – и на вертел, на вертел! В конце концов, можно в шкурке. Можно с шерстью, целиком – лишь бы жарилось, лишь бы скворчало. Наслаждение обсасывать каждую косточку!
Пытался ли я бежать? О, пытался ли я бежать!
В вечнозеленой ловушке не оказалось ни гвоздя, ни веревки, ни топора, ни молотка, ни пилы – и ни единой доски. Попробуйте-ка из ничего сотворить лестницу! В первые годы я доходил до того, что уподоблялся бобру, пытаясь грызть тонкие ольховые и рябиновые стволы. Увы, тяга к так неожиданно, просто и нелепо расставшейся со мной свободе напрочь лишила элементарного разума – для удачи, конечно же, требовались бревна не менее пяти дюймов в обхвате, высотою метров семь – все остальное было напрасной тратой времени. Забегая вперед, замечу: лихорадочные приготовления осуществлялись редкими безлунными ночами почти что на ощупь. Каторжный труд дневной душил меня, словно налоговый инспектор: иногда попросту не хватало сил заползать в самый дальний конец сада, пускать в ход зубы и вконец убитые руки (каждая косточка пальцев моих вопила от беспросветной усталости), перевязывая то и дело рвущимися лианами заготовленные днем жердины и униженно, ко всему прочему, умоляя фазанов и вальдшнепов не поднимать обычного гвалта (как правило, паника этой бестолочью все же организовывалась).
К тому же вездесущий дедок не дремал. Если мучитель вынюхивал скрываемые в самых укромных местах свидетельства очередной попытки побега, героическая работа моя уничтожалась самым безжалостным образом. Разумеется, я не ставился об этом в известность: ухмылка старого негодяя была явным признаком удачной охоты. Но и от того, что с таким трудом удавалось спасти, в конечном счете, не было проку: прислоняемые ночами к воротам гнущиеся лестницы из ненадежных рябин, под моим весом неизменно обрушивались. Попытка подкопа (созданные из щепок совки, все те же безлунные ночи, горстями выносимая и затем рассыпаемая по всему саду земля, титанические усилия, чуть было не сотворившие из меня сумасшедшего) достойна отдельной саги. О прорыве через кустарник не могло быть и речи, однако отчаяние доходило до грани. Как самоубийца-заключенный рвется к проволоке с электрическим током, так и я временами, теряя рассудок, несся на приступ. Садист-старикан каждый раз невозмутимо выковыривал меня, всего, от несчастной головы до не менее несчастных ног нашпигованного колючками, из зарослей. Яд этого чудовищного растения, после каждой такой безумной попытки скручивающий не хуже столбняка (несколько часов после штурма я рычал, катался по лугу, корчился, испуская пену изо рта), был мучительным наказанием – и Господь, судя по всему, не собирался его отменять.