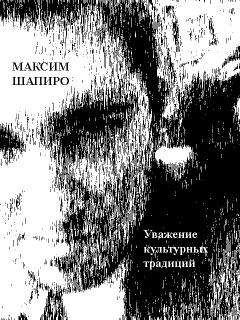Борис Шапиро-Тулин - Один счастливый случай, или Бобруйские жизнелюбы
На третью ночь он услышал неподалеку крики и редкую стрельбу. Крики насторожили Монче. Он попытался открыть дверь сарая, но она была заперта. Тогда он нашел в стене несколько самых тонких досок и начал методично их раскачивать. Через некоторое время одна доска, а за ней другая медленно со скрипом поддались. Монче с трудом протиснулся в узкий проход и прислушался.
Где-то совсем рядом раздавались отрывистая немецкая брань и негромкие женские причитания. Монче обогнул сарай, прошел через поросшие зеленью огороды и вышел во двор дома, где солдаты выволакивали на крыльцо старика, до глаз заросшего бородой, и седую, с трясущейся головой старуху. Один из вояк ткнул старика прикладом автомата в спину, и тот, охнув, свалился как подкошенный. Старуха истошно закричала, и второй немец занес было над ней свой приклад, но тут из темноты метнулся пружинистой пантерой Монче.
Он вцепился солдату в горло, и оба рухнули на землю. Остальные немцы засуетились вокруг, но стрелять не решались, боясь попасть в своего. Схватка длилась недолго, солдат захрипел и обмяк. Монче оттащили и оставили лежать на земле.
Он поднял руки к лицу и размазал по щекам что-то липкое и теплое.
– Кровь, – сказал он, приблизив пальцы к глазам, – моя кровь.
Затем он посмотрел сквозь пальцы наверх и, должно быть, впервые за много лет осознал, что перед ним небо, усеянное звездами.
– Звезды, – сказал Монче.
Что-то, давно погребенное в сумерках сознания, медленно возвращалось к нему. Он прижался щекой к земле и понял, что лежит на влажной ночной почве.
– Земля, – сказал Монче и заплакал.
Георгиевские кресты, с мясом вырванные из пиджака, блестели в траве. Он протянул к ним руку, но на ладонь наступили кованым сапогом. Монче поднял глаза. Прямо над ним стоял солдат, передергивающий затвор автомата. В проеме его ног Монче опять увидел звезды и, радостно узнавая, улыбнулся им.
Солдат нажал на курок. Звезды погасли.
Саса-Шпутник
Редко кто в нашем маленьком городе обходился без прозвища. Как-то же должны были люди выделяться из общей массы.
У Саши, который работал закройщиком в местном ателье, прозвища не было. Да и зачем оно человеку, с детства не умевшему выговаривать все эти «Ж», «Ч», «Ш» и «Щ», а потому заменившему их раз и навсегда универсальной буквой «С». Представлялся он, несмотря на преклонный уже свой возраст, всегда одинаково – Саса, и именно так называли его все вокруг.
В Сасе все было каким-то маленьким – и рост, и размер ноги (ходили слухи, что обувь себе он покупал в магазине, где толпились обычно мамаши со своими детьми). А руки выглядели у него такими короткими, что метр, которым обмерял он габариты заказчиц, казалось, намного превышал величину хранящегося в Париже эталона. И все же именно Саса считался лучшим закройщиком города. За право заказывать свои наряды у него боролись все местные дамы – от юных красоток до жен высокопоставленных особ. Ведь кроме своего отменного мастерства закоренелый холостяк Саса был еще очень галантным кавалером. Задернув шторку в примерочной, он обычно говорил так:
– Мадам, у меня исе не было такой закасиси, вы лусея. Тесное благородное.
Если волей судеб в его руки попадала клиентка, до сих пор еще незнакомая с лучшим закройщиком города, она, естественно, долго не могла понять, за какие такие «сиси» этот маленький человек обозвал ее «лусей» и почему его «благородное» оказалось таким «тесным».
Когда наш город подвергся тотальной телефонизации, у Сасы появился прекрасный шанс скрашивать по вечерам свое одиночество. Набрав номер очередного собеседника, он вместо приветствия обычно спрашивал:
– Ты меня уснаес?
– Конечно, нет, – отвечал на том конце провода какой-нибудь шутник.
– Странно, – искренне удивлялся он, – это се я, Саса.
Время шло для него как-то незаметно. Впрочем, именно так оно шло для большинства жителей Бобруйска. Ну, казалось бы, зима, ну, лето, ну, появились на рынке к первому сентября роскошные букеты огненных гладиолусов. Ну, умер, наконец, любимый вождь товарищ Сталин. («Умер не умер, лишь бы был здоров», – говорили на всякий случай осторожные бобруйчане). Ну, назначили нового любимого вождя. Ну, расстреляли бывшего преданного слугу народа. Но поскольку глобальных перемен вокруг вроде бы не наблюдалось, то мерилом времени становился не календарь, а зеркало. Уж оно точно и без всякой жалости фиксировало изменения, которые возраст накладывал на лица моих сограждан. Впрочем, к Сасе это практически не относилось. Его внешний вид оставался таким же, как с десяток лет назад, когда, вернувшись с Великой Отечественной, он устроился в местном ателье, вспомнив свою довоенную специальность. Тот же маленький рост, тот же юношеский фальцет, те же круглые очки, поднятые на лоб, а надо всем этим густым веером торчали в разные стороны совершенно седые волосы. Про свои два ранения, пять медалей и три ордена распространяться Саса не любил, но местные острословы утверждали, что служил он радистом в разведроте и ему специально приказывали не шифровать свои послания в эфире, поскольку немцы, безуспешно пытаясь разгадать, что же такое произнес их противник, теряли присутствие духа, после чего их можно было брать голыми руками. Саса не обижался. Только один раз, когда заезжей журналистке посоветовали именно у него взять интервью для радиопередачи к очередной годовщине Победы, он молча захлопнул дверь перед самым ее носом. Правда, вечером он все же разыскал гостиничный номер, в котором та остановилась.
– Я не мастак рассказывать, – произнес он извиняющимся тоном, – но я могу, если хотите, вас обсывать.
Поскольку журналистке никак не могло прийти в голову, что «обсывать» означает «обшивать», а вовсе не «обзывать», как она, естественно, предположила, то Саса был тот час же изгнан из номера, а сама труженица пера в глубокой задумчивости поспешила уехать из нашего показавшегося ей несколько странным города.
Вскоре после этого случая Саса собрался на пенсию. Когда все документы были оформлены и сослуживцы отметили его уход на небольшой дружеской вечеринке, Саса почувствовал себя вольным как птица. Он принес домой и поставил на видное место электрический самовар, на крышке которого было выгравировано: «Дорогому товарищу Александру Гомзину в память о совместной работе». Вечером, когда Саса зажигал свет, самовар тускло отсвечивал боками, как настоящий солидный приз. Глядя на него, Саса начал постепенно сознавать, что он потерял. Потерян был мир, где за бархатными шторками примерочной женщины без стеснения доверяли ему свои достоинства и недостатки. А он, пританцовывая вокруг них и замеряя все соблазнительные впадины и не менее соблазнительные выпуклости, как истинный творец, давал их фигурам, балансирующим на грани 120х120х120, ощущение вожделенных 90х60х90, таящихся в особых линиях изобретенного им кроя.
Грустил он недолго. Сделал полную профилактику швейной машинке марки «Зингер», единственному военному трофею, привезенному из далекой Пруссии, позвонил паре-тройке бывших клиенток, и вскоре к его дому стали спешить, как на заветное свидание, самые известные дамы нашего города. Саса чувствовал себя на вершине блаженства. То, что его заказчицы с готовностью отдавали свои тела трепетным касаниям Сасы, измерявшего все подробности их фигуры, не в казенных кабинках ателье, а прямо посреди его собственной квартиры, доставляло ему неизъяснимое наслаждение. Но вершиной этого наслаждения становился очередной наряд, подчеркивавший именно те прелести, которые он хотел подчеркнуть, и скрывавший именно те недостатки, которые собственной волей он мог скрыть от любого самого придирчивого глаза. Дело дошло до того, что с изнанки в самом низу подола Саса стал вышивать собственные инициалы, подражая знаменитым художникам, желавшим донести до потомков авторство своих произведений.
Так бы и продолжалась дальше его жизнь, наполненная радостным служением прекрасному полу, но случилось событие, которое полностью перевернуло все его существо. Событием этим стал запуск первого искусственного спутника Земли.
Сасу словно подменили. Милые дамы все реже и реже стали появляться около его дома. Впервые за долгие годы он пропускал срок выполнения заказа, отодвигая его на неопределенное время. Он стал не то чтобы небрежен, нет, мастерство его ухудшить было уже невозможно, но интерес ко всем этим рукавам в три четверти, плиссированным юбкам и стоячим воротникам у него угас настолько, что знающие его дамы готовы были предположить самое для себя страшное – Саса влюбился. Если бы только они могли знать, что стало предметом, целиком захватившим его чувства?!
Саса расхаживал по городу и жадно ловил все разговоры, в которых упоминался спутник. Октябрь в тот год выдался холодным и дождливым, но даже осеннее ненастье не могло удержать Сасу от ежедневных вылазок на рынок, где около магазина, торговавшего хозяйственной утварью, обсуждались все значимые мировые новости. Ему просто необходимо было делиться со знакомыми и незнакомыми людьми переполнявшим его чувством.