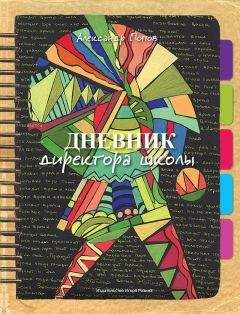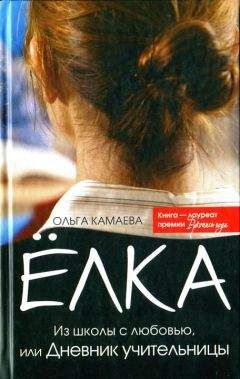Андрей Битов - Пушкинский дом
Но если еще забежим, то можем с уверенностью сказать, что, когда жизнь, пусть в сугубо личных формах мирного времени, но тоже проехалась по Леве (годам к тридцати), а отец выстарился и стал прозрачен, то сквозь эту прозрачность начал Лева, с жалостью и болью, все четче различать такое неискоренимое, такое сущностное родство с отцом, что от иного нелепого и мелкого отцовского жеста или слова приходилось ему и подлинно отворачиваться к окну, чтобы сморгнуть слезу. Сентиментальность была тоже свойственна им обоим…
В общем, лишь к тому далекому времени, что приближает нас к печальному концу Левиной повести, только тогда мог понять Лева, что отец – это его отец, что ему, Леве, тоже нужен отец, как оказался однажды нужен и отцу – его отец, Левин дед, отец отца. Но об этом важном «тоже» надо рассказывать отдельно.
Если бы мы поставили перед собой более подробную задачу – написать знаменитую трилогию «Детство. Отрочество. Юность» нашего героя, то встали бы перед определенного рода трудностями. Если кое-что помнил Лева из «Детства»: переселение народов – в пять лет, подглядывания, подворовывания, подголадывания, драки, несколько избушек, теплушек и пейзажей, – из всего этого можно было бы воссоздать некую атмосферу детского восприятия народной драмы, даже придать этой атмосфере плотность, насытив ее поэтическими испарениями босоногости, пятен света и запахов, трав и стрекоз («Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца!»); если отчетливо и подробно, уже на наших глазах, прошла его «Юность», и ей мы еще посвятим… то об «Отрочестве» Лева почти ничего не помнил, во всяком случае, помнил меньше всего, и мы бы имели затруднения, как теперь принято говорить, «с информацией». Мы могли бы лишь подменить эти его годы историческим фоном, но не будем этого делать: столько, сколько нам здесь понадобится, известно уже всем. Итак, отрочества у Левы не было – он учился в школе. И он окончил ее.
Итак – сузим брюки, утолщим подошву, удлиним пиджак. Повяжем мелко галстук. Смелые юноши вышли на Невский, чтобы уточнить историческое время в деталях. Будем справедливы в отношении их доли. Доли – и доли: доли в общем деле – и доли в общей судьбе. Первая – недооценена, как и всякая историческая работа, вторая – так и не вызвала заслуженного сочувствия или жалости.
Так или иначе, они ведь себя – «положили»… Лучшие годы (силы) не худшей части нашей молодежи, восприимчивой к незнакомым формам живого, пошли на сужение брюк.
И мы им обязаны не только этим (брюками), не только, через годы последовавшей, свободной возможностью их расширения (брюк), но и нелегким общественным привыканием к допустимости другого: другого образа, другой мысли, другого, чем ты, человека. То, с чем они столкнулись, можно назвать реакцией в непосредственном смысле этого слова. Как раз либеральные усмешки направо по поводу несерьезности, ничтожности и мелочности этой борьбы: подумаешь, брюки!.. – и были легкомысленны, а борьба была – серьезна. Пусть сами «борцы» не сознавали свою роль: в том и смысл слова «роль», что она уже готова, написана за тебя и ее надо сыграть, исполнить. В том и смысл слова «борцы». Пусть они просто хотели нравиться своим тетеркам и фазанессам. Кто не хочет… Но они вынесли гонения, пикеты, исключения и выселения, с тем чтобы через два-три года «Москвошвей» и «Ленодежда» самостоятельно перешли на двадцать четыре сантиметра вместо сорока четырех, а в масштабах такого государства, как наше, – это хотя бы много лишних брюк…
Но нас перекашивает в дешевку, поскорей упомянем о «второй» доле, которая является лишь омонимом первой, не о доле – части, куске общего пирога, а о доле – судьбе, доле-долюшке. Их уже не встретишь на Невском, тех пионеров… Их раскидало и расшвыряло, и они – выросли. Больше или меньше, но вносят они какой-нибудь службой лепту и в сегодняшний день. Появись они сейчас в том героическом виде – как были бы они жалки среди такого-то достоинства линий импорта, валюты, фарцовки, терилена, лавсана!.. Если вспомнить их боевую молодость, то все это достается сейчас (в смысле «достать, доставать»), можно сказать, даром… И они имеют право, как ветераны, бить себя пьяной культею в грудь в том смысле, что проливали кровь за советскую водку для финнов и финский терилен для Советов. И здесь я снова оглядываюсь из времени, о котором повествую, во время, в котором пишу…
Несколько лет назад мне еще довелось в последний раз увидеть такого – сорокалетнего, изъезженного жизнью по лицу, но оставшегося верным тому, лучшему, своему, героическому времени.
Не заметить его было невозможно. Он – торчал. Все замирали и оборачивались, и так оказывались поражены, что даже не смеялись; рука не успевала подняться, чтобы указать на него пальцем, – он успевал гордо прошаркать мимо, обозначив, что – господи! – можно сказать, десять, даже пятнадцать лет прошло, как корова языком слизнула… потому что он – был все тот же. И что пятнадцать лет прошло – было еще пустяки, а вот что́ за эти пятнадцать лет прошло – это было да! это была эпоха. Как постепенно, как мгновенно она прошла – никто и не заметил, находясь в ней и продвигаясь с нею. И вдруг в настоящем, глупо до гордости и не удивляясь изменениям, прошаркало или, как тогда говорили, «прошвырнулось» прошлое…
Это был тот самый пресловутый «стиляга» начала пятидесятых. В тех же брючках, в том самом спадающем с плеч до колен зеленом пиджаке, чуть ли не на тех же подметках, подклеенных у предприимчивого кустаря, в том же галстуке, повязанном микроскопическим узлом, в том же перстне, с тем же коком, тою же походкой – в самом карикатурном, даже для того времени, в самом «крокодильском» виде, который и на рыжих-то у ковра давно уже вышел из моды. «Вяткин…» – вспомнил какой-то старичок, но и Вяткина уже никто не помнил. И еще дело было в том, что человек этот шел вот так всерьез.
Что ж, ему досталась доля уличного сострадания и стыда… Так и не смеялись – все были смущены, – он был сумасшедшим. Он был инвалид. Господи! подумал я, как же люди все-таки навсегда привержены к тому времени, когда их любили, а главное, когда они любили! Сойти с ума… Да ведь если не прятаться за новый покрой, то вот так и привержены, как этот сумасшедший…
Этот ветеран моды, этот леденцовый солдатик Истории, почему-то так и не рассосавшийся на ее языке, обозначил позавчерашний вкус… Ах, этот вкус слишком легко теперь уценить! Пусть он просто хотел нравиться своим тетеркам и фазанессам, отстаивал свободу «всего лишь» вторичных мужских признаков, но и он кое-что вынес на своих плечах (хотя бы большую вату…), и он чего-то не вынес, чему мы оказались теперь свидетелями, но и он выстоял, предоставив последующим поколениям борьбу (куда, впрочем, более легкую!) за последующее расширение брюк, но даже и он не выстоял, навсегда обратившись взглядом в ту молодость, которая для всех прошла…
Этого единственного в своем роде городского сумасшедшего теперь что-то не видать совсем, так что нет уже шансов проверить опыт… Но вот мы встретим однажды, совсем уже в наше время, лет почти через двадцать после того времени, небольшую группку на углу Невского и Малой Садовой, человека три-четыре. Что-то задержит на их лицах наш взгляд… Мы решительно никогда их не видали и не знаем их в лицо, однако это именно они – самые знаменитые люди Невского того времени! И Бенц, и Тихонов, и Темп… Вот ведь не были знакомы, а имена помним, как помнит поневоле каждое поколение имена тех вратарей и тех центрфорвардов. Вот и они взглянули мне в лицо с легким сомнением и отвели взгляд…
Где они были эти -адцать лет? Почему я их не видел ни разу во все эти бурные годы? А где был я?.. Вот они стоят, неузнаваемые, лысоватые, одутловатые, сороковатые – э-ле-гантные: все-таки раньше других пестовали свой вкус… Легкий душок фарцовки можно, если попристальней, уловить. Во рту еще тает ожог коньячка с лимоном из магазина «Советское шампанское», что за углом. Ах, осторожней, ребята, чего вы только не видели за свой срок!.. Постояли, посмотрели из своего прошлого чуть более длинным взглядом на Невский, ничем не отличились от толпы, сели в «Волгу» с частным номером и укатили, оставив в моей душе язву о стольких годах чьей-то и моей жизни.
Да, годы прошли недаром, мы лучше оделись, это стоит жизни… Господи! недопустимо так унижать людей!
Вот в это-то историческое время, на которое мы намекнули узкими брюками, Лева благополучно оканчивает школу и поступает в Университет к своему отцу. Нет, он не принадлежал к тем, отчаянным, не впадал в смешную крайность – он тоже воспользовался плодами их поражений, постепенно сужая брюки по правовой норме, хотя и по предельному допуску. Не смешно и не опасно… мы с уверенностью не скажем, что и когда воспитывает нас. В университете уже, в пору «Юности» (журнала), приучался он распространяться в максимальных (оптимальных), но допустимых (допущенных) пределах: заполнять предоставленный объем.