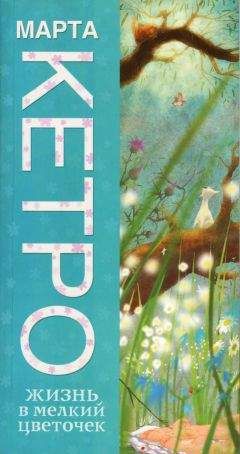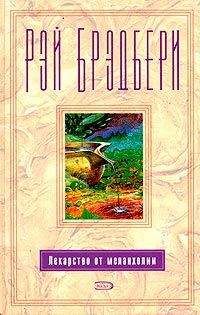Марта Кетро - Бродячая женщина (сборник)
Прямо от автовокзала обо мне начал заботиться (в хорошем смысле) Митя.
Митя, он гид, и по совместительству красивый, как рысь. Я послушно смотрела на древности, которые он показывал, но иногда отвлекалась и поглядывала на него, потому что хотела убедиться, не показалось ли мне. Нет, точно – как рысь.
Потом я ещё думала, что работа гида странная, нужно каждый раз в определённом месте произносить определённый текст. В Эрмитаже, наверное, рехнёшься, но в Иерусалиме это напоминает какое-то религиозное отправление: пришёл к этому камню, проговорил над ним специальные слова, пошёл к другому. Медитативно.
Однажды во Флориде мне объяснили, что гиды делят туристов на ботаников и архитекторов – одни всё время спрашивают, что это за кустик, а другие, что это за домик. А Митя к этому добавил, что гид всегда идёт впереди туриста, чтобы успеть затоптать незнакомое растение. Так вот, со мной это необходимо, потому что я, конечно, из ботаников.
У гидов особенная шкала информационной ценности, очень заразительная. Тебе обстоятельно показывают стену, которую Ирод приказал сложить специальным образом, и ты смотришь на неё с неподдельным восхищением – офигеть, какая придумка. И воодушевление твоё сохраняется так долго, что потом некоторое время пытаешься пересказать каждому встречному: «Каменные блоки он велел ставить так, представляешь?!», а люди смотрят рыбьим глазом и отказываются разделять твой восторг.
Митя ещё и потому хороший проводник, что умеет подобрать человеку именно такой комплекс впечатлений, который тот наверняка сможет воспринять не умом, так ещё как-нибудь.
В Сионской горнице было бело и пусто, только хрупкая рыжая кошечка дремала на каменной скамье. Когда я села рядом, она проснулась, залезла ко мне на колени, спрятала нос в рукав плаща и замурлыкала. От этого у меня, наверное, сделались стеклянные глаза, потому что на нас с ней будто опустился прозрачный купол, отсекающий время. Так бы сидела и сидела следующие лет сто, пока не проголодаюсь.
Потом мы спустились в подземелья Ир-Давид. Я люблю камешки почти так же, как кустики, и к тому же клаустрофоб, и не могла упустить шанс помучить свои страхи. Не знаю, как другие чувствуют замкнутые пространства, а у меня на шее сидит карлик в душном плаще, который сжимает мою шею руками и ногами, а иногда закрывает лицо пыльной полой, так что впору заваливаться на спину и синеть. И я, конечно, стараюсь изводить это мерзкое существо при любой возможности, потому и попросилась туда.
Из прекрасной древней канализации мы выбрались потные, но с достоинством, и вышли к высокой стене с восхитительным видом, и я сразу вспомнила, что у меня и акрофобия тоже.
Мы сели под стеной и некоторое время тупо смотрели впереди себя, наслаждаясь безлимитным количеством свежего воздуха. На древней стене угасали отблески заката. «Досмотрю, и пойдём», – думала я.
– Митя, – сказала я через некоторое время, – тут что-то не то, отчего это закат такой долгий?
– Марта, это лампочками подсвечено. Пойдёмте уже.
После этого Старый город я покидала совершенно раздавленная счастьем. «Как это здорово и как по-христиански, – думала я, – что некая комбинация физиологических страданий так просветляет и освобождает простого человека. Это почти как русская баня, только с большой эмоциональной нагрузкой».
* * *Я никогда прежде не видела пустыни, никакой, и это большое упущение. В прошлом году я посмотрела на океан, но это другое, он утешает, а пустыня, наоборот, обездоливает. Увидевший океан становится ближе к жизни, а тот, кто часто смотрит на пустыню, в конце концов отдаляется от неё и оказывается гораздо ближе к птицам, чем к людям. Птицы болтаются на границе жизни и смерти, поэтому у них плохо с памятью и совестью, а хорошо, наоборот, с лёгкостью и нахальством. На месте остальных людей я бы не стала связываться с тем, в ком отпечаталась пустыня: никогда не знаешь, то ли он сейчас улетит, то ли умрёт у тебя на руках, то ли, наоборот, будет жить вечно, – ясно только, что ты останешься ни с чем.
Но если постоять немного на романтическом обрыве, разглядывая Мёртвое море и лежащую за ним Иорданию, пафос постепенно снижается. Пустыня оказывается каменистой и золотой, море голубым, а тот берег розовым. Долго сохранять суровость посреди этой колористической непристойности не получается.
Женя везёт меня в Масаду, о которой я толком помню только диалог из «Властелина колец» в переводе Гоблина:
– А ты слышал когда-нибудь о Масаде? Три года девятьсот евреев держались против тысяч римских легионеров! Они предпочли рабству смерть! И где теперь эти римляне?
– Хм, я думал, ты спросишь, где теперь эти евреи…
Что ж, увидим.
Если на фуникулёре неинтересно, можно подняться по крутой лестнице и с красной рожей припасть к крану с питьевой водой, а уж потом оглядеться. Поначалу это просто очень красивый вид и очень старые камни. Ты методично ходишь и всё обсматриваешь – круто же, дворец Ирода, а байка обрастает плотью, и Флавий, веером пролистанный в колледже, становится актуальным, как сводка новостей. История в этой стране не перестаёт быть, точно так же, как не исчезает Присутствие у Стены плача и в храме Гроба Господня. Чья история? Чьё присутствие? – а чьё сумеешь принять.
В конце концов, приходит время спуститься в пещеру, в бывший водный резервуар, в котором две тысячи лет назад девятьсот шестьдесят человек договорились перерезать друг друга, потому что больше не могли удерживать крепость и сдаваться тоже не могли. На поверхности под тридцать, внизу прохладно, внизу холодно, внизу сказочка о смерти окончательно превращается в саму смерть, в эхо последнего волевого усилия, и если на минутку заткнуться, то можно узнать, где они теперь – они всё ещё там.
Кажется, на Мёртвом море мы оказываемся меньше чем через час. С перепадом высот и температур внутренний монолог не возвращается, наоборот, думать получается только телом. Но и оно сбито с толку: Женя проводит обычный инструктаж – лицо в воду не опускать, глаза не тереть; я знаю, что погружаюсь в агрессивную среду, но тёплое плотное море присылает противоположные сигналы – нужно расслабиться, всё хорошо. Вынуждена признать, что за пять минут я впала в состояние космической собаки Белки, Женя сжалился и вытащил меня.
Ещё через час мы подъезжали к Иерусалиму, за бортом было плюс тринадцать, ни одна часть меня уже ничего не соображала, но где-то между мирами Женя, который тщательно выстроил весь этот трип и теперь любовался результатом, дал мне рюмку французского абсента, и я подумала «ну и ладно». Сегодня выяснилось, что времени, расстоянию и прочим физическим показателям доверять бессмысленно, и за одно это стоит выпить.
Дома я забралась в постель, закрыла глаза, и последние дни рассыпались, как подброшенная пачка открыток, – взлетели и распались на картинки и ветер.
* * *Читавшие эти записки говорят, у меня получился комплиментарный текст, в котором нет ничего о насущных проблемах Израиля. А что, кто-то обещал? Я не пишу этнографических исследований, мне хватает проблем своей страны, чтобы на них сосредоточиваться. Там я была туристом, и в этом качестве со мной ничего плохого не случалось. Если случится, я вам сообщу. И выберу другое место для следующих каникул.
У меня не было неприятностей со службами безопасности, например. Досмотры были, неприятности – нет. Воспринимать их работу без раздражения меня научил один разговор в Дизенгоф-центре.
Чернокожий толстячок, приблизительно моего роста, стоял у входа, расставив ноги несколько шире плеч, и поигрывал сканером. Он с явным наслаждением изображал техасского шерифа, не забывая коротко, но внимательно проверять каждого входящего.
– Долго репетировал эту позу, – заметил Женя.
– Важненький такой…
– В девяносто шестом тут был теракт, смертник хотел войти, но испугался охранника. Отошёл немного и взорвался, погибли тринадцать человек. Попал бы внутрь, были бы другие цифры.
– А охранник уцелел?
– Нет.
Боже мой, да пусть играет в героя, у него, к сожалению, есть некоторый шанс им стать. Пусть дотошная девчонка переворачивает мою сумку в Бен Гурионе («Кажется, я теперь знаю, что такое еврейский погром, – подумала я тогда, – то, что устраивают израильские безопасники в твоих вещах»). Пусть работают, как умеют, зато мне спокойней лететь, ходить по торговому центру, ездить в автобусе.
Но в целом отлёты мои проходят гладко. В последний тель-авивский вечер я решила выпить капельку абсента, но по необъяснимым причинам чистый напиток постепенно сменился коктейлем «Ван Гог». Я немного грустила и даже опасалась, что буду плакать, уезжая, но с утра физические страдания полностью изгнали душевные. И служба безопасности с одного взгляда поняла, что у этого человека сегодня другие проблемы, нежели взрыв аэропорта.