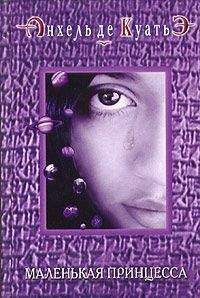Олег Ермаков - Вокруг света
Какое заключение можно сделать из сопоставления этих эпизодов? Вывод прост: эпизод и подтверждает подлинность стихотворения, даже если все в стихотворении выдумано. Всё, да не всё.
Странно, что сам Иван Трифонович не увидел, что эпизод с лошадью перекликается со стихотворением и с еще большей силой узаконивает его.
После этого наблюдения мы вправе и все остальное тщательнее взвешивать и сопоставлять. И в первую очередь все то, что касается быта. Здесь Ивана Трифоновича щепетильным не назовешь. А ведь можно было бы какие-то моменты и вовсе не поминать. Кто-то давал трезвящий совет: вообразите себя персонажем рассказа Чехова.
Вообразите, что о вашем быте будет повествовать кто-то достаточно беспощадный. Думается, что от такой привилегии отказался бы и сам Иван Трифонович.
Вопрос о поэте с окаменелым сердцем снова требует своего разрешения. И сразу он звучал у меня, читателя «Родины и чужбины», так: может ли быть поэт с окаменелым сердцем? И почему-то в голову не пришло поставить вопрос по-другому: а какое сердце бьется сквозь строки «Страны Муравии»? Или в стихотворении «Я убит подо Ржевом». Да и в любом живом стихотворении Твардовского. С окаменелым сердцем этого не напишешь.
Но, вероятно, Иван Трифонович хотел сказать этой метафорой сердца нечто другое. Неожиданную помощь здесь подает Карл Юнг. В своей работе «Психология и поэтическое творчество», рассуждая о творческой личности, которая всегда загадка, он пытается эту загадку раскрыть и, между прочим, пишет, что «человек оказывается обычно настолько обескровленным ради своего творческого начала, что может как-то жить лишь на примитивном или вообще сниженном уровне».
Это соображение бросает на строки Ивана Трифоновича особенный свет: «…и с окаменелым сердцем шел он трудной дорогой своих планов».
Замечание об окаменелом сердце вырвалось в то время, когда семья Твардовских бедовала в ссылке. А вокруг поэта стягивалось кольцо лающих о кулацком подголоске. Поэта травили, он был загнан. Но в это же время рождалась «Страна Муравия».
И впереди был «Тёркин», а еще «Дом у дороги» и другие поэмы и стихи. Лучшие военные стихи все-таки написал именно Твардовский. «Я убит подо Ржевом» погружает нас на архетипическую, какую-то священную глубину, а точнее, глубоко возносит. Голос убитого пронзает насквозь, как пуля. Но ничего не кончается тут же, этот голос звучит и потом будет звучать при любом случайном воспоминании об этом стихотворении или даже при упоминании Ржева.
Пройдет время, и «Василий Тёркин» прочно встанет вровень со «Словом о полку Игореве». Да уже и сейчас ясно, что это наши лучшие воинские поэмы.
А то, что люди с поэтическим складом ума и души способны прозревать будущее, не раз подтверждалось примерами.
Сам Александр Твардовский случайно это засвидетельствовал, рассуждая о новом своем герое, еще не выявленном, смутном, пока более фельетонном, мелькнувшем на страницах фронтовой газеты финляндской войны: «При удаче это будет ценнейший подарок армии, это будет ее любимец, нарицательное имя». Имя это – Василий Тёркин.
Снова уместно привлечь Юнга: «Так получает удовлетворение душевная потребность того или иного народа в творении поэта, и поэтому творение означает для поэта поистине больше, чем личная судьба, – безразлично, знает ли это он сам или нет. Автор представляет собой в глубочайшем смысле инструмент…»
Поэзия не то чтобы победила, но оказалась убедительнее прозы.
Но и то и другое уже нераздельно. И возможно, в этом залог особого бытования поэзии Твардовского. По крайней мере, у меня, как читателя, еще не бывало подобного драматического опыта постижения. Это своеобразное двоекнижие создает объем, пронизанный токами.
Мед
А еще у поэзии есть местность.
И это тоже неисчерпаемая книга.
Днепр и курганы, болото, возле которого сражался Меркурий, Ельнинский большак; село Немыкари, упоминавшееся в грамоте Ростислава XII века; Белкино, где ждал Денис Давыдов генерала Орлова-Денисова, чтобы атаковать отряд генерала Ожеро, стоявший в Ляхове (в итоге французский генерал сдался в плен); Станьково, где было имение первого русского партизана в войне 1812 года А. Д. Лесли; Славажский Никола, где во времена Смуты находился острог; малые речки, родники, холмы, леса, в которых еще хорошо видны окопы; Васильево, куда ходил читать стихи Твардовский, но и затем, чтобы увидеть Машу Радькову; Белый Холм, где учились некоторое время братья Твардовские; и, наконец, Загорье.
Может быть, ощущая эту неисчерпаемость, Твардовский и задумывал главную книгу, роман «Пан». Судя по всему, главным героем был бы отец.
Остается гадать, что это была бы за книга, какие глубины в ней раскрылись бы и с чего она начиналась бы. Предполагают, что с описания деда. Но не исключено, что с переезда вот сюда, в Белкино, еще счастливых молодых – кузнеца и дворянки из крестьянской семьи. Здесь они стали жить вдвоем, под этим небом заструился вкусный дымок кузни, раздались удары молота по наковальне.
Любопытные воспоминания о Белкине оставил Михаил Кошелев. Он описывает большой помещичий деревянный дом на каменном фундаменте, амбары, сады, аллеи кленов и дубов, озеро с водяной мельницей, холмы, спускающиеся к речке (в названии ошибка, скорее всего, по вине редакции: вместо Ливна – Лемна). Далее Кошелев замечает: «Место очень живописное. Думаю, что этот типичный уголок среднерусской природы оставил след в сознании юного Твардовского, который здесь бывал много раз».
В барской усадьбе был открыт Народный дом, сюда приходили на вечера жители окрестных деревень, ставили спектакли, устраивали танцы, смотрели кино, читали стихи. Кошелев вспоминает сочинителя стихов Морозова из деревни Боровой за Ливной, Суворова из деревни Церковище, отличного рассказчика (устного) Силантия из деревни Крутиловки, Яшку Петроченкова из Воскресенска, игравшего на скрипке.
Позже Народный дом перенесли в Васильево, на холмы, с которых сбегает родниковый сильный ручей.
Из него и сейчас можно напиться.
…Ночуя в Белкинском лесу, я хожу за водой на Васильевский ручей, туда, где он впадает в Ливну.
И в этот раз взял котелки, пластмассовые бутыли и пошел сквозь спелые августовские травы, сорящие семенами. Радовался, что удалось сфотографировать черного аиста. Встреча свидетельствовала об истинной заповедности этих мест и заставляла почему-то вспомнить еще одного поэта с крестьянской душой, о ком уже была речь, Тао Юаньмина. Ну да, аист – значимая птица в китайской традиции, правда, на древних рисунках это всегда белый аист.
«Вместо пахоты службой / содержать я себя не думал, / А увидел призванье / в листьях тутов, колосьях в поле», – признается он. То, о чем писал Твардовский, как о томительной связи, в полной мере испытал и его далекий предшественник.
Судьбы Твардовского и Тао Юаньмина как будто не схожи. Первый навсегда покинул загорьевскую глухомань, обосновался в столице, был замечен и награжден неоднократно премией Иосифа Сталина и другими премиями, стал депутатом, членом Ревизионной комиссии руководящей партии, кандидатом в члены ЦК этой партии, возглавлял лучший журнал страны, беседовал с Никитой Хрущевым; его, главного редактора, возил личный шофер на «Победе», осаждали фотографы и журналисты; жил он в хорошей квартире, любил бывать на даче; слава его была всенародной.
Тао Юаньмин проделал обратный путь. Происходил он из старинного клана высокопоставленных чиновников. Клан к моменту его появления на свет захирел. Послужив чиновником, даже начальником уезда, поэт убедился, что ему «чужды созвучия шумного мира» и больше всего он любит «гор и холмов простоту», а «в пылью жизни покрытые сети, / В суету их мирскую» он попал по ошибке. И тогда он возвратился к садам и полям – таково название программного стихотворения Тао Юаньмина, в котором он описывает свою усадьбу: небольшое поле, дом, как и смоленская изба первой трети прошлого века, крытый соломой, сад. Заканчивается оно вздохом облегчения:
Как я долго, однако,
прожил узником в запертой клетке
И теперь лишь обратно
к первозданной свободе пришел.
Проблема службы у недостойного правителя волновала умы китайского общества тех времен. И Тао Юаньмин дал свой ответ:
Вот бобы посадил я
на участке под Южной горою,
Буйно травы пробились,
робко тянутся всходы бобов.
Утром я поднимаюсь,
сорняки из земли вырываю,
К ночи выглянет месяц,
и с мотыгой спешу я домой.
Поэт вернулся к земле, и по всему видно, он ее любит не меньше Никиты Моргунка. К нему приходит на чарку вина сосед, Тао Юаньмин режет курицу, и они сидят и ведут не праздные разговоры, они беседуют о земле, о зерне и всходах. Но и без гостей поэт умеет скрасить свой досуг: поет стихи, играет на цине или раскрывает древние книги. Конечно, идиллия кажущаяся. Поэта-крестьянина одолевают заботы о хлебе насущном. Живет он бедно, не так-то просто прокормить семью, а у него много детей. Бывают времена, он сидит и ждет, не появится ли гость с вином. Тао Юаньмин превозносит вино. Хорошенько приложившись, он любит побродить по окрестностям. Да и на трезвую, как говорится, голову тоже: «Никого. И в печали / я иду, опираясь на палку, / Возвращаюсь неровной, / затерявшейся в чаще тропой. // А в ущелье, у речки / с неглубокой прозрачной водою, / Хорошо опуститься / и усталые ноги помыть…» Поэт смиряет себя старой мудростью: «Печальтесь о правде, / Пусть вас не печалит бедность»…