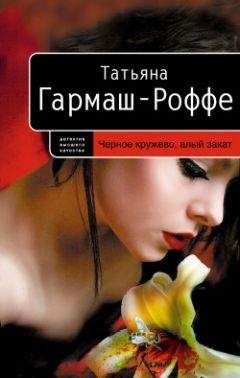Татьяна Трубникова - Знаки перемен (сборник)
Лезть было страшно. Она старалась не смотреть вправо. Соседка перекинула ей портфель.
– Вот и все. А то сидела…
Наташа даже не сказала ей «спасибо». Все еще подташнивало. То ли от страха высоты, то ли от ужаса пыльных дешевок.
Балкон и впрямь был у них открыт.
«Папа уходил последним. Забыл» – подумала.
А потом к ней в гости пришла подружка. Она была новенькой в их классе. Лена. Елена. В этом имени ей чудилось что-то своевольное, самостоятельное. Глаза – огромные, карие, ланьи. Томные пухлые губы. Вырастет – красавицей будет. Подружка сидела, подвернув под себя ногу, рассматривала их квартиру и разглагольствовала о мальчиках. Натуля слушала. Ей было не слишком интересно. То есть были любопытны отношения, но не та первая сексуальность, что уже проснулась в Лене. Натуля была от этого далека. Она рассказывала Елене совсем другое. О солнечной стране своего детства, Северной Африке, о лазоревом море с морскими ежами, о жарком сирокко, о развалинах римского города, в которых нашла зеленую римскую монетку…
Елена вертела ее в красивых пальцах. Удивлялась. Натуля показывала цветные слайды изысканного заграничного рая…
* * *На следующий день утром мама искала свои сережки. Золотые, с жемчужинами в висюльках. Их не было. Мама перевернула весь дом.
Натуля вспомнила про табуретку, уже стоявшую наготове у соседки… их открытый балкон… Забыла ключи… Она ничего не сказала маме. И вообще – никому. Почему? Она и сама не знала.
* * *Интеллигенты паршивые. Надстройка в обществе. Жировой слой. Что они понимают в этой жизни? Да они ее вообще не видели никогда! Ее прямо-таки трясло. Последнее время часто раздражение накатывало волной. Накатывало, заламывало затылок. Она и сама не замечала, как начинала кричать на Славку. Иногда вспоминала соседа-интеллигента. Ни дать, ни взять – Андрей Миронов на сцене. Актер ее любимый. Такой же чистенький, аккуратненький. Костюмчик светло-серенький. В ботинки начищенные смотреться можно. Словно рубль золотой. Да не нужна она ему, неинтересна. Но он понял, он все понял, когда она недавно заговорила с ним. Интеллигент-интеллигентом, а нюх мужицкий есть… А что ей еще делать? Он только мимо ходит. Много лет – мимо. А ее вся жизнь – у глазка в двери. Он понял, что завлекает она его. Не откликнулся, не ответил. Никак. Будто не понял. А сам понял. Она видела. Вот так. Да еще курице своей, наверное, рассказал. Не иначе. Она теперь и вовсе с… смотрит… А…а… Х… с ними.
Пойти икры баклажанной на хлеб намазать? Можеть… Ничего они не знают. Ничего не видят. Живут, будто котята слепые. А потом их раз! Мордой… И за границу! Б….
Разве они людей наших знают? Почему наши люди пьют? Питье питью рознь. Они, интеллигенты вшивые, никогда не пьют по-настоящему. Только легкий кайф возьмет, сразу бросают. Для него, кайфа этого, и пьют. А нормальный человек зачем пьет? Чтоб себя забыть. Чтоб вычеркнуть, убить, забыть себя навсегда. Ну, не навсегда, получается, конечно. Потом очнешься. Вспомнишь все. Кто ты и откуда. Ненадолго хотя. Принимать надо так: до краев себя. А потом еще немного. Переборщишь – могут и врачи не откачать. Важно свою меру знать. И еще. На утро оставить. В этом надо всю свою изобретательность применить. Потому что если не оставить, или если найдешь свою нычку, тогда тоска. Магазины открываются в одиннадцать. А до одиннадцати вся душа наизнанку выйдет. Через тоску. А что мы имеем в магазине, на Ленинградской? «Столичную» за четыре двенадцать. Она отдает картофельным спиртом. «Пшеничную» за три шестьдесят две. Или «Зубровку». Портвешок. И все. Пива не достать. Редко выбросят. Да разве оно в доме залежится? Его здорово добавлять во все остальное. Деликатес. Если денег нет, можно опохмелиться в рюмочной. Там же, рядом с магазином, на Ленинградке. Рюмочная хороша еще и тем, что там можно знакомых встретить. А у этих знакомых могут вдруг водиться деньги.
Но здесь – рай, конечно. Потому что водка – это наша, русская, горькая слеза. Она всегда вылечит. Обманет, то бишь.
Эх… вся страна сидит. Мы бы за такую колбасу, за два двадцать, готовы отдаться были бы, а здесь ее, вон, кошки не едят… Рай, конечно.
* * *Натуля любила свой дом. Особенно когда была в нем одна. Его тихость, его уют. Пролистаешь любимые книги по искусству, рассмотришь Брема «Жизнь животных». Книги старые, с «ятями», с узорной росписью корешков, с тончайшими рисунками.
К вечеру, когда солнце клонится к закату, его косые лучи превращают все предметы в расплавленное золото. Красноватые ковры, бронзовые статуэтки, растительный орнамент обоев, картины – все в мягком золоте. Смотришь в старое зеркало, немного будто бы пыльное, а там ты – золотая…
Потому что девятый этаж. Последний. Край города. За окном – поля и леса. Внизу – солнце уже село. Зажигают свет в окнах. А здесь оно – золотая радость…
* * *Страшно умирать? Страшно. А пуще всего больно то, что не зовет он ее по имени… Сколько лет друг с другом отсидели здесь, на девятом? Больше, чем по зонам. Одним ключом наручники замкнуты… Как это у нас называется? Сожители… Нет, не зовет он ее по имени…
* * *«Ах ты, курва безалаберная», – ругал он ее, уже мертвую. «И живая-то нича делать не умела. Токо в рот брать. А картошка жареная – дерьмо получалась». Так всю жизнь на плавленых сырках и закусывал.
Тяжелая. Еще тяжелее, чем живая.
* * *Он понял, что плохо ей. В глазах – страх застыл. Он тогда сказал ей:
– Ты держись, Наташка.
Глаза на него вскинула. Обожгла будто.
– Ты держись, Наташка. Мы с тобой и не из такого дерьма вылезали. Забыла? Выползешь. Я тебя таскать буду. Мне не тяжко, не думай. Песню помнишь: «Эх, невеста…»
Слезы по неподвижному, как маска, лицу. И глаза. Тогда еще живые.
Такой она и осталась в его памяти.
* * *Натуля однажды спросила маму:
– Что-то не слышно соседей. Не ругаются.
– Она умерла. Представь, странно: он ее на руках носил. Целых полгода. В туалет.
Папа удивился:
– Так судно же есть.
– У него не было. Откуда тебе алкоголик судно достанет? Это в больнице договариваться надо.
* * *Жуть. Невозможно спать в этой квартире. Будто везде – она. Вот, безделушки эти ее глупые. Пальцем никогда их не трогал. Как подумаешь, что она последняя их касалась… Особенно на балконе плохо. Перила. Это ее перила. Так и кажется, так и в глазах стоит, будто она облокотилась о них… Вырвать, вытащить железо с корнем, оторвать ее от них… Или самому вырваться на простор, вниз… к березкам, что тянут свои тонкие руки-ветки к нему…
Если б можно было, половину отпущенных до смерти лет ей бы отдал. Так, чтоб в один день потом…
Были у них знакомые, удивлялись, почему они так просто живут. Обои, раковины – те еще, что строители клеили-ставили. Все, как въезжают, сразу сдирают эту муру. Казенная обстановка. Как можно так жить? Дураки. Он жил в раю. Он спал на мягкой постели и настоящих простынях, которые Ташка иногда стирала. Просто все эти люди не знают, что такое нары, баланда. А запах… Что за запах в тюрьме. В первые минуты так шибает, что думаешь – непременно стошнит. Он густой, хоть топор вешай. В нем все: бесчисленные выдохи и вздохи, параша, кислая баланда, пот и смрад тел. А здесь – простор. Вид с балкона – бескрайнее поле до горизонта, аэродром ДОСААФ, зелень трав, облака, как балерины в белом. А нет – так папироса, черно-белый телевизор, фильм какой-нибудь. Может, даже комедия. На подушке лежишь, как король. А лес! Праздник, вот что он такое. В воскресенье поднимешься рано, Ташка еще дрыхнет, потихоньку хлопнешь для опохмелки. Корзину, сапоги резиновые, куртку – и в лес. Грибов наберешь. Дома сам же намаринуешь, нажаришь. Какая закусь на зиму!
Неизбывная тоска – тисками, когда впервые идешь по тюремному коридору. Будто каждый шаг – последний. Главное, знаешь: и коридор этот мерзотный за счастье скоро будет видеть. Руки – за спиной. Гора-горб за плечами…
* * *Натуля очень испугалась. Она сидела дома одна. В дверь настойчиво звонили, стучали. Тихо-тихо, не дыша, подошла к двери. С бьющимся сердцем посмотрела в глазок. Сосед. Тюремщик. Пьяный до смерти. Дверь перепутал, наверное. Все хотел, чтоб ему открыли… Последнее время он часто так. После смерти «Лисы-Алисы»…
Облокотилась спиной о холодную стенку. Это всего лишь сосед. Слава Богу. Свой. Тюремщик.
Через какое-то время он затих.
Натуля пошла доделывать уроки.
* * *А соседи эти, интеллигенты хреновы? Хоть бы ругаться умели по-человечески – он бы знал, что не умерли. И что он не один здесь…
Соседи… Все мы – соседи. Сидящие рядом, то бишь.
Теперь каждый день он напивался до бесчувствия. Так, что либо не доползал до девятого этажа, либо стучался куда-то не туда… Ну, не мог он там быть… Пьяному, ему иногда казалось, что Ташка жива, что откроет… Ташка-пташка. Глупая пташка. Глупая-глупая. Потому что интеллигентик этот, сосед, ей нравился. Весь он – в чеках заграничных, квартира – в барахле, сам весь чистенький – хоть облизывай. За что ему это? За послушных властям родителей?