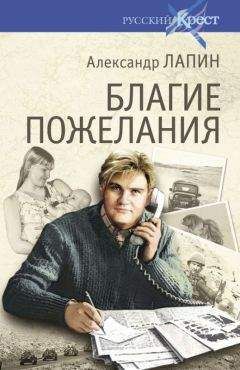Александр Лапин - Утерянный рай
– Ну, в общем, твои работы для газет не подходят, – начал он поучать Андрея. – Газетам нужно производство. Живые люди, передовики, а не пейзажи, солнце и прочее. Да и обрезал ты их как-то не по-людски.
– Я нормально обрезал, – робко возражал ему Андрей.
Но Лео уже разворачивался в поучительстве:
– А зернистость какая у тебя, посмотри! Для газеты это вообще неприемлемо. Не пропечатал.
В общем, Лео так раскритиковал фотографии Андрея, что тот, открытая душа, чувствовал себя едва ли не тупицей, бездарью и вообще человеком, севшим не в свои сани. Через час даже толстокожий Вайдман заметил, что переборщил, и милостиво предложил Андрею:
– Ну, вот эту, вот эту и вот эту девочку я, пожалуй, возьму. Постараюсь пристроить, хотя ничего обещать не буду.
Андрей выдохнул:
– Спасибо!
– Ты, вообще-то, не переживай так. Если хочешь, будем вместе работать. Зарабатывать. Ты же студент. Приходи завтра ко мне в лабораторию…
VII
Он аккуратно сложил в корыто помятые ведра, лопаты, мастерки. Застропил, как учили, крюки изнутри. И собрался было подняться пешком на девятый этаж строящегося панельного дома.
– Эй! – высунувшись сверху из кабины подъемного крана, крикнула ему крановщица Валентина. – Садись в корыто, прокачу на крышу!
Дубравин знал, что катание на подъемном кране строжайше запрещено правилами техники безопасности. Да и Валентина не из тех девушек, которые просто так, от нечего делать, будут нарушать эти самые правила. Можно получить не только втык от бригадира, но и лишиться премии. За этим приглашением что-то было…
Он просто не знал, что в бригаде, где он сейчас проходил производственную практику, катание в корыте было традицией при принятии новичков в коллектив…
С минуту он колебался. И честно говоря, пролететь в корыте над домами, над Алма-Атой, с одной стороны, было заманчиво, а с другой – жутковато.
– Ну что ты? – крикнул сверху ему звеньевой на монтаже дядя Федя. – Садись!
И Шурка решительно шагнул в бадью. Сел. Легкий толчок, натянулись стропы. Он, словно птица, взлетел вверх. Мелькнули мимо окна этажей. Далеко внизу остались чуть припорошенные снегом крыши частных домишек, окруженные деревьями и кустарниками.
Стало страшно и почему-то весело. Он вцепился побелевшими пальцами в края растворного корыта, оглянулся и одним взглядом охватил весь город. В это мгновение Алма-Ата впечаталась в его сознание, его жизнь, его судьбу. Сам того не ведая, он навсегда полюбил этот город, бесспорно и по праву считающийся красивейшим в Казахстане и Средней Азии. Он смотрел на него сверху и видел справа зеленые холмы, вздымающиеся, словно гигантские волны, а еще выше – величественные заснеженные пики Алатау. Смотрел влево в марево, дымное от бесчисленных печных труб, и видел, как город уходит от гор куда-то вдаль. И там теряется, растворяется в далекой-далекой дикой степи. Он видел прямые улицы, обсаженные тополями. И понимал, что город строился не так, как обычные азиатские города.
Когда-то, в конце прошлого века, пришли сюда русские казаки и заложили крепость, назвав ее Верный.
Казахи, которые из своих аулов приезжали в этот город на базар, увидев в нем гигантское количество яблонь, звали город Алма-Ата, что значило «отец яблок».
Ну а после революции, в тридцатые годы, коммунисты в угоду проводившейся тогда национальной политике переименовали казачий форпост Верный. Этой участи не избежали тогда многие тысячи городов. Киргизский Пишпек стал городом Фрунзе, Екатеринбург – Свердловском, Петербург – Ленинградом, Царицын – Сталинградом. Но так как никакие «выдающиеся» революционеры в Верном не объявлялись, то большевики пошли по другому пути. Они в отместку казакам назвали этот город так, как называли его «кайсаки» – Алма-Ата.
А зеленой она была вот почему. Еще царский губернатор издал указ: «Если кто едет на базар из близлежащих сел, то он должен привезти в город пять саженцев». Эти саженцы были пропуском для торговли на рынке Верного. Поэтому и сегодня, если приглядеться, видно, что все улицы города были засажены тополями по пять штук подряд.
«Знал бы губернатор, что от тополиного пуха в двадцатом веке люди будут так страдать. Небось засадил бы улицы чем другим», – подумал Саша Дубравин, планируя над усохшей верхушкой гигантского тополя в растворном корыте и подлетая к балкону девятого этажа экспериментального дома.
Алма-Ата находится в сейсмической зоне, и поэтому раньше здесь дома выше двух-трех этажей никогда не строили. Боялись. Но в шестидесятые годы, когда возникло панельное домостроение, дававшее возможность собрать жилой дом в девять этажей за месяц-два, решили рискнуть. Много возились с проектами. Проводили испытания. И вот теперь, как бы ни было сложно, строили. Даже девятиэтажки… Целыми микрорайонами.
Бадья глухо стукается днищем об пол девятого этажа, звякают ослабшие крючья. Он приподнимается на ослабших ногах, встает. И оказывается прямо в центре их монтажной бригады. Во главе стоит маленький седой звеньевой – дядя Федя. Рядом его помощник – монтажник пятого разряда крепкий, спортивный молодой кореец Валерка Ким. Тут же в своей негнущейся робе и похожей на рыцарский шлем маске сварной Зарубин. Рядом могучий бетонщик – татарин Наиль. И звено, которое замазывает места сварки раствором. Оно состоит из трех человек: это Маруся – жена Наиля, здоровенная баба – и две подружки-хохлушки. Две черноволосые, белолицые девчонки с Украины, приехавшие попытать счастья в Алма-Ату.
Сашку торжественно выводят из корыта. Дядя Федя подает ему короткий монтажный ломик. Все хлопают в ладоши. Это означает, что бригада принимает его в коллектив.
Такой небольшой местный обряд. Минутное дело!
Дубравин пожимает всем окружающим руки. И народ расходится по рабочим местам.
После смены он еще должен проставиться, или – по-другому – прописаться в бригаде, – купить народу выпивку и закуску.
Так начинается его практика на стройке.
Вообще, за все то время, что он в Алма-Ате, Дубравин только сейчас начинает интересоваться окружающим его миром. А так было не до него. Потому что он весь в своей любви.
Месяц тому назад он получил от Галины «черную метку» в виде письма и не находил себе места. Метался. Наконец купил билет на занятые у сестры деньги. Сел в голубой автобус-экспресс, идущий до аэропорта. И полетел к ней, в Усть-Каменогорск. Домой.
Ему казалось, все эти размолвки, непонимание, холодность с ее стороны – только от того, что они давно не виделись, не были вместе. Встретятся они, и все станет как было. И вот он преодолел две тысячи километров одним махом.
И что же?
Первое, что потрясло Шурку, – это то, как изменилось Жемчужное. Прошло так немного времени. Все вроде на месте: дома, улицы, школа, люди. Но все чужое. Почему? А потому что исчез тот мир, в котором он жил. Мир класса, мир его друзей. Исчезла аура. Осталась пустота. Это был удар. Пока он сидел где-то далеко, ему казалось, что настоящая жизнь происходит здесь, в Жемчужном, что он просто в силу обстоятельств вырван из нее. А оказалось, что их рай исчез. Их мир исчез. Он, как Атлантида, погрузился в небытие.
Второй удар был связан уже с ней. Каковы же были его недоумение, разочарование, горечь, когда он прождал ее на мостике весь вечер, а она так и не появилась. Уже в темноте он пришел к ее дому и еще, наверное, с час вглядывался в зашторенные окна: «Получила ли она мое письмо? Или же не получила? А если не хочет приехать? Или не может?».
Так, в мучениях прошла пятница, потом суббота. Оставался последний день. Воскресенье. Дубравин понял, что не появилась она неслучайно. И почти смирился с судьбой. Уже ни на что не надеясь, пошел вечером в кино. И – о чудо! Возвращаясь домой после фильма, неожиданно, да так, что совсем опешил, натолкнулся на Галину, которая шагала вместе с младшей сестрой. Увидел ее, и сердце упало куда-то в пятки. Забилось. В этот миг она показалась ему такой же далекой и недосягаемой, как тогда, когда они еще ходили в школу. Он даже растерялся. Сто раз в день представлял, как они встретятся, что скажут. И когда встреча произошла, ничего сказать не может.
– Здравствуй, – спокойно ответила она на его приветствие, потом повернулась к сестре: – Таня, ты иди домой. Нам надо поговорить.
Таня, послушная девочка, кивнула головой и тихо пошла по аллейке.
– Ну, что скажешь? – спросила она и оглядела его своими огромными глазами. Ее «примороженный» тон остановил все мысли Дубравина. Он хотел обнять, поцеловать ее. И не мог решиться. Его пыл, горячность показались ему совершенно неуместными в это мгновение.
Он не без юмора рассказал ей о том, как отпросился с занятий и с работы, как мчался к ней, «словно вихрь черный», и понял: «Не надо»…
Разговор завертелся о том, о сем. Как будто не было тогда этих летних двух недель. Не было романа в письмах.
Чужие, они дошли до ее дома. Остановились. Чувствуя, что сейчас она уйдет, а он так и останется с этим ужасным вопросом, он, пересиливая себя, вел этот ненужный ему разговор и в то же время лихорадочно искал возможность спросить о главном.