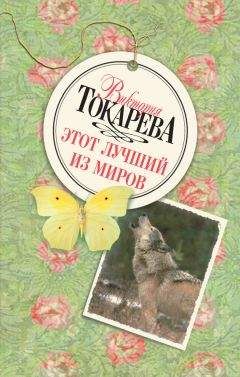Виктория Токарева - О том, чего не было (сборник)
Врач говорит маме, что у меня открылся туберкулез, образовалась вспышка, которую надо заливать салом и медом.
Мама произносит «о-о-о!..» и на этом звуке втягивает в себя воздух, а потом не выдыхает, так и сидит с широкими глазами и застывшим лицом.
Обратно возвращаемся ночью. Небо надо мной черное, но чернота не плоская, а глубокая, объемная.
Мама больше не балуется. Она идет равномерно и медленно, как лошадь, и ей кажется, что никогда не кончится дорога, никогда не кончится зима, никогда не кончится война.
А потом стало немножко теплее. Снег сошел, обнажилась земля, черная и влажная. Клочья снега, грязные и пористые, застряли возле забора, а за забором дорога и дома кажутся неприбранными, неряшливыми.
Тетя Нина раскрыла большой сундук, достала оттуда Светкино красное плюшевое пальто, такой же капор и ботинки, некогда черные, теперь почти белые. Все это, включая ботинки, было таким мятым, будто их два дня подряд, не отвлекаясь, жевала корова и, брезгуя проглотить, выплюнула.
Я стою рядом со Светкой и гляжу, как ее обряжают: сначала надели капор, завязали под подбородком за две скрученные тесемочки и вывязали их в бантик. Тесемочки шелковые, взаимодействуют неплотно, поэтому капор не облегает голову, и Светка выглядывает из него, как из норы. Нос у нее острый, губы бледные.
Потом тетя Нина застегнула пальто на все имеющиеся пуговицы и подергала за подол, чтобы пальто было подлиннее и не казалось таким мятым.
Я присутствую при этом торжественном моменте, и в моей душе мается какое-то сладкое томление, предчувствие счастья. Это предчувствие не дает мне стоять на одном месте. Я слоняюсь вокруг Светки и тети Нины то кругами, то какими-то ломаными линиями.
Наконец Светка готова, я беру ее за руку, и мы вместе выходим на крыльцо. Вокруг меня то, что я видела вчера и позавчера, на что я не обращала никакого внимания – все это существовало само по себе, помимо моего сознания. Но оттого, что рядом со мной Светка, – все, что я вижу, кидается в мои глаза остро, пестро, бессистемно: кадка, темная от дождей, ярко-рыжая горка кирпичей, пожухлый клочок газеты, резкий стеклянный ветер. Я захлебываюсь от этой навязчивости, заглядываю в Светкино лицо, как бы делясь с ней этой звонкой пестротой. Но Светка смотрит перед собой равнодушно и безучастно, как взрослая. У нее такой вид, будто она забыла дома что-то необходимое и теперь раздумывает – возвращаться ей или нет.
Мы спускаемся с крыльца. Я держу Светку за руку и через эту руку ощущаю рядом с собой другую жизнь, хрупкую и драгоценную. У меня такое чувство, будто я учу ее ходить, и она делает свои первые шаги: шаг со ступеньки на ступеньку. Еще шаг – со ступеньки на землю. И вот уже мы медленно ступаем, чутко выверяя подошвами устойчивость земли.
По мне, от кончиков рук и ног, как пузырьки в стакане с газированной водой, взбегают легкость и радость. Эта легкость и радость вздымают меня от земли, я иду возле Светки почти невесомая. Со мной творится что-то невероятное. Предчувствие счастья становится невыносимым, оно треплет меня так, будто я схватилась руками за оголенные провода. И мои несчастные нервы, истонченные голодом и субфебрильной температурой, не выдерживают такой нагрузки. Я опустилась на горку рыжих кирпичей посреди двора и разрыдалась.
Я не могла понять: почему иду над землей, почему плачу?
Потому что тогда, в те далекие дни, я первый раз в своей жизни была счастлива чужим счастьем. А это самое большое, самое счастливое счастье, какое только бывает на свете.
Я сидела на кирпичах и плакала, раздавленная незнакомым чувством, а Светка стояла рядом, не ведая о соучастии. С какой-то обреченной покорностью вникала в весну, в теплое, настойчивое солнце.
Давно это было…
Пропади оно пропадом
Время остановилось и раздвинулось. Секунда стала длинной, как минута, а минута – как час.
В конце такой длинной минуты Смоленский позвонил в дверь. Своих ключей у него не было, он постоянно терял их и каждый раз, подходя к двери, клялся, что закажет себе ключи. Пойдет на базар и закажет в палатке сразу три или четыре пары ключей.
Дверь отворила жена. Внимательно посмотрела на Смоленского и, ничего не сказав, пошла спать.
Смоленский был знаком со своей женой с пятого класса средней школы. Еще тогда, в пятом «Б», она была самая умная и самая красивая девочка в классе. Потом они вместе поступили в медицинский институт, и она была самая умная и самая красивая студентка на курсе. А потом они поженились, и выяснилось, что жена у Смоленского самая умная и самая красивая женщина на Земле и любила она только Смоленского и больше никого. Любила с детства и не представляла, что можно любить кого-то еще.
Жена ушла спать, а Смоленский снял ботинки и в одних носках пошел в детскую комнату.
На раскладушке спал сын, четырехлетний мальчик. Из деревянной детской кроватки он вырос, а новую ему еще не купили. У раскладушки был какой-то временный вокзальный вид, и мальчик на раскладушке тоже выглядел неприкаянным. Он шумно дышал, как насос, будто совершал серьезную работу, и личико во сне у него было сосредоточенное.
Над раскладушкой висела картинка: доктор Айболит выслушивает через трубку лисицу, а в очереди стоят мартышка, заяц, жираф. Смоленский сам покупал эту желтую блестящую картинку, а потом сам прибивал ее к стене. Дом был панельный, и гвоздь не шел в стену. Пришлось сначала вбить деревянную пробку, а потом уже в пробку – гвоздь.
Смоленский наклонился над раскладушкой, и все лучшее, все святое, что было в нем, полетело навстречу спящему мальчику, а мальчик летел к нему, раскинув во сне руки.
Смоленский стоял в темноте и искренне не понимал, как он мог даже на несколько часов предать этот дом, где каждый гвоздь забит своей рукой, и у него было такое состояние, как если бы он украл из музея ненужный ему экспонат, например египетскую мумию, и теперь должен сесть в тюрьму.
«Пропади оно пропадом! – подумал Смоленский. – Гори огнем! Завтра же начну новую жизнь!»
Под новой жизнью он имел в виду старую, прежнюю жизнь, когда она состояла из двух этапов: работа и семья. Теперь его жизнь каким-то образом расстроилась на три части: работа, любовь и семья. Смоленскому всегда представлялось, что любовь – это счастье, а теперь выяснилось, что любовь – это болезнь, похожая на аппендицит. Распространенная и вроде неопасная, но, если не вырежешь вовремя, помрешь от перитонита.
Некоторые его знакомые – и из начальства, и из подчиненных – не помирали от перитонита, а сводили любовь, этот свой аппендицит, в хроническую форму: существует и не мешает. Любовь и семья превосходно сосуществовали, не смешиваясь, как вода и масло в стакане, каждая жидкость со своим удельным весом. Любовь – это любовь, а семья – это семья. Причем семья считается величиной постоянной, а любовь – переменной.
Смоленский так не умел. Дома он думал о Наде, а с Надей думал о доме, и получалось, что у него ни любви, ни семьи, ни режима, а одна только измученная совесть.
Смоленский вошел в большую комнату, осторожно разделся и лег, радуясь, что он наконец дома, в собственной постели.
Жена не спала, но притворялась, что спит. Они лежали рядом, и между ними было лет двести. А за окном занимался серый рассвет.
Смоленскому часто снился один и тот же сон: будто он вошел в операционную, сделал разрез скальпелем, и в этот момент его позвали к телефону. Он вышел из операционной, долго говорил по телефону, потом переоделся и куда-то уехал и только в конце дня, вернувшись домой, вспомнил, что у него на столе остался больной со вскрытым животом.
Смоленский каждый раз подхватывался в холодном поту и, уже проснувшись и осознав, что это сон, долго не мог прийти в себя и боялся заснуть, боялся снова увидеть этот сон.
Сегодня ему тоже начала сниться операционная, он уже ощущал тепловатый душный воздух и усилием воли заставил себя проснуться. Глядел в потолок, видел воображением Надю, нежную молодую линию шеи и подбородка, скучал и строил планы новой старой жизни. «Есть два пути, – думал он. – Объясняться и не объясняться. Мы не будем объясняться».
Новая старая жизнь началась, как обычно, с обхода. В послеоперационной палате возле окна лежала пятилетняя Лена Юрина, смотрела картинки в книжке, втайне рассчитывая, что, если она занята делом, может, к ней не подойдут. Но Смоленский подошел.
Вровень с окном рос высокий тополь. Под ним на лавочке сидела Ленина бабушка. Она приходила каждый день, как на работу, и проводила под окнами весь день.
«А уйдут – и спасибо не скажут», – машинально подумал Смоленский. Когда дети поступали в клинику, то вся их жизнь и жизнь родителей сосредоточивалась вокруг Смоленского. А потом, когда выписывались, старались забыть этот период в своей жизни: и болезнь, и больницу, и заодно Смоленского, который был неотделим от больницы и от болезней.